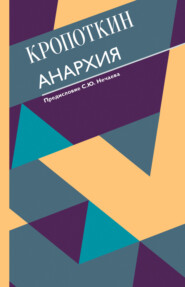По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки революционера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Nous avons subi une terrible defaite. La Commune est ecrasee mais non vaincue, – говорили они и принимались за самую тяжелую и черную работу в ожидании лучших дней.
Из Невшателя я поехал в Сонвильё. Здесь, в маленькой долине среди Юрских гор, разбросан ряд городков и деревень, французское население которых тогда исключительно было занято различными отраслями часового дела. Целые семьи работали сообща в мастерских. В одной из них я познакомился с другим вожаком, Адэмаром Швицгебелем, с которым впоследствии очень сблизился. Я нашел его в мастерской среди десятка других молодых людей, гравировавших крышки золотых и серебряных часов. Меня пригласили присесть на скамье или на столе, и скоро у нас завязался оживленный разговор о социализме, о том, нужно ли или не нужно правительство, о приближавшемся съезде.
В тот вечер бушевала жестокая метель. Снег слепил нас, а холод «вымораживал кровь в жилах», покуда мы плелись до ближайшей деревни, где должна была собраться сходка, но, несмотря на метель, из соседних городков и деревень там собралось около пятидесяти часовщиков, главным образом все пожилые люди. Некоторым из них пришлось пройти до десяти верст, и все-таки они не захотели пропустить маленького очередного собрания, созванного на тот вечер, чтобы познакомиться с русским товарищем.
Самой организацией часового дела, дающей возможность людям отлично узнать друг друга и работать на дому, где они могут свободно беседовать, объясняется, почему в умственном развитии местное население стоит выше, чем работники, проводящие с детства всю свою жизнь на фабриках. Юрские часовщики действительно отличаются большою самобытностью и большою независимостью. Но также и отсутствием разделения на вожаков и рядовых объяснялось то, что каждый из членов федерации стремился к тому, чтобы самому выработать собственный взгляд на всякий вопрос. Здесь работники не представляли стада, которым вожаки пользовались бы для своих политических целей. Вожаки здесь просто были более деятельные товарищи, скорее люди почина, чем руководители. Способность юрских работников, в особенности средних лет, схватить самую суть идеи и их уменье разбираться в самых сложных общественных вопросах произвели на меня глубокое впечатление, и я твердо Убежден, что если Юрская федерация сыграла видную роль в развитии социализма, то не только потому, что стала проводником безгосударственной и федералистической идеи, но еще и потому, что этим идеям дана была конкретная форма здравым смыслом юрских часовщиков. Без нее они, вероятно, еще долго оставались бы в области чистой отвлеченности.
Теоретические положения анархизма, как они начинали определяться тогда в Юрской федерации, в особенности Бакуниным, критика государственного социализма, который, как указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм еще более страшный, чем политический, и, наконец, революционный характер агитации среди юрцев неотразимо действовали на мой ум. Но сознание полного равенства всех членов федерации, независимость суждений и способов выражения их, которые я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная преданность общему делу еще сильнее того подкупали мои чувства. И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом.
После путешествия в Бельгию, где я мог сравнить централистическую политическую агитацию в Брюсселе с независимой и экономической агитацией, которая шла среди суконщиков в Вервье, мои воззрения еще более окрепли. Эти суконщики принадлежали к числу самых симпатичных групп людей, которых я встречал за границей.
Глава X
Влияние Бакунина. – Социалистическая программа
Бакунин в то время жил в Локарно. Я не видел его и теперь крайне сожалею о том, потому что, когда через четыре года я снова очутился в Швейцарии, его уже не было в живых. Он помог юрским друзьям разобраться в мыслях и точно выразить свои стремления; он сумел вселить в них могучий, непреодолимый, революционный энтузиазм. Как только Бакунин усмотрел в маленькой газете, издаваемой Гильомом в Юрских горах (в Локле), новую, независимую струю в социалистическом течении, он тотчас же приехал в Локль. Целые дни и ночи беседовал он с новыми своими друзьями об исторической необходимости нового движения в сторону анархии. В газете он начал ряд глубоких и блестящих статей об историческом поступательном движении человечества к свободе. Он вселил в своих друзей энтузиазм и создал тот центр пропаганды, из которого впоследствии анархизм распространился по всей Европе.
После того как Бакунин переселился в Локарно, он создал подобное же движение в Италии и в Испании (при помощи симпатичного, талантливого эмиссара Фанелли). Работу же, которую он начал в Юрских горах, продолжали сами юрцы. Они часто поминали Мишеля, но говорили о нем не как об отсутствующем вожде, слово которого закон, а как о дорогом друге и товарище. Поразило меня больше всего то, что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его как умственного авторитета.
В разговорах об анархизме или о текущих делах федерации я никогда не слыхал, чтобы спорный вопрос разрешался ссылкой на авторитет Бакунина. Рабочие никогда не говорили: «Бакунин сказал то-то» или: «Бакунин думает так-то». Его писания и изречения не считались безапелляционным авторитетом, как, к сожалению, это часто наблюдается в современных политических партиях. Во всех тех случаях, где разум является верховным судьею, каждый выставлял в спорах свои собственные доводы. Иногда их общий характер и содержание были, может быть, внушены Бакуниным, но иногда и он сам заимствовал их от своих юрских друзей. Во всяком случае, аргументы каждого сохраняли свой личный характер. Только раз я слышал ссылку на Бакунина как на авторитет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в присутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.
– Жаль, что нет здесь Мишеля! – воскликнула одна из присутствовавших. Он бы вам задал! – И все примолкли.
Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее же высшие правила жизни.
Я возвратился из этой поездки с определенными социалистическими взглядами, которых я держался с тех пор, посильно стараясь развивать их и облечь в более определенную и конкретную форму.
Был, однако, один пункт, который я принял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел, что великие перемены, долженствующие передать все необходимое для жизни и производства в руки общества – все равно будет ли то народное государство социал-демократов или же союз свободных групп, как хотят анархисты, – не могут свершиться без великой революции, какой еще не знает история. Больше того. Уже во время Французской революции крестьяне и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опрокинуть прогнивший аристократический строй. Между тем в великой социальной революции народу придется бороться с противником гораздо более сильным умственно и физически – с средними классами, которые имеют притом в своем полном распоряжении могущественный механизм современного государства.
Но я скоро заметил, что никакой революции – ни мирной, ни кровавой – не может совершиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли в тот самый класс, которого экономические и политические привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян и понимал, что, если бы сознание несправедливости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков (под влиянием эволюции, вызванной революциями 1793 и 1848 годов), освобождение крестьян никогда не совершилось бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начинает распространяться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники современного экономического строя отказываются уже от защиты своих привилегий на почве права, а довольствуются обсуждением своевременности преобразования. Они не отрицают желательности некоторых перемен, но только спрашивают, действительно ли новый экономический строй, предлагаемый социалистами, будет лучше нынешнего? Сможет ли общество, в котором рабочие будут иметь преобладающее влияние, лучше руководить производством, чем отдельные капиталисты, побуждаемые личной выгодой, как в настоящее время?
Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции, то есть периоды ускоренной эволюции, ускоренного развития и быстрых перемен, так же сообразны с природой человеческого общества, как и медленная, постепенная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп развития ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции – ее не избегнуть, – а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее передовые элементы из самих правящих классов.
Парижская Коммуна – страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов. Когда в марте 1871 года работники стали хозяевами Парижа, они не только не тронули права собственности буржуазии, но даже охраняли их. Вожди Коммуны грудью покрывали Национальный банк. Несмотря на кризис, парализовавший промышленность, и последовавшую от того безработицу, Коммуна своими декретами охраняла права владельцев фабрик, торговых учреждений и жилых помещений города Парижа. Между тем, несмотря на это, когда движение было подавлено, буржуазия не зачла бунтовщикам скромности их требований. Проживши два месяца в постоянном страхе, что коммунары посягнут на их права собственности, версальцы, когда они взяли Париж, стали мстить, как будто это покушение уже было совершено. Около тридцати тысяч рабочих, как известно, было перебито не в сражении, а после того как сражение было кончено. Вряд ли месть могла быть ужаснее, если бы Коммуна приняла самые решительные меры к социализации собственности.
Если в развитии человеческого общества, рассуждал я, существуют периоды, когда борьба неизбежна и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необходимо по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и определенных требований, а не смутных желаний. Необходимо, чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность которых не уменьшит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.
В последнем случае исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, перед которыми на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей, ибо в таком случае преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. Борьба, происходя на почве широких идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как с той, так и с другой стороны будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям.
Проникнутый такими идеями, я возвратился в Россию.
Глава XI
Краков. – Переговоры с контрабандистами. – Перевозка книг через границу
Во время поездки я накупил много книг и собрал коллекцию социалистических газет. В России, конечно, все они были, безусловно, запрещены цензурой. Некоторые газеты и отчеты международных съездов ни за какие деньги нельзя было бы приобрести даже в Бельгии. «Неужели так и бросить литературу, – думал я, – которой в Петербурге так были бы рады брат Александр и мои друзья?» Я решил во что бы то ни стало перевезти книги в Россию.
Возвращался я в Петербург через Вену и Варшаву. Тысячи евреев живут на нашей западной границе контрабандой, и я не без основания думал, что, если найду хоть одного из них, мои книги будут переправлены благополучно через границу. Но сойти на маленькой станции близ границы и там разыскивать контрабандиста было бы неблагоразумно. Тогда я свернул с прямой дороги в Краков. «Столица старой Польши близка к границе, – думал я. – Там, вероятно, я раздобуду еврея, который меня сведет с необходимыми людьми».
Я прибыл в знаменитую некогда столицу вечером, а на другой день рано утром отправился из гостиницы на поиски. Велико, однако, было мое смущение, когда на каждом углу и всюду на пустынной базарной площади я встречал еврея с пейсами, в традиционном долгополом кафтане, выглядывавшего какого-нибудь пана или купца, которые послали бы его с поручением и дали бы заработать несколько грошей. Мне нужен был один еврей, а тут их оказалась целая куча. К кому же обратиться? Я обошел весь город и наконец в отчаянии решил обратиться к еврею, стоявшему у дверей моей гостиницы, громадного старинного палаца, в залах которого когда-то танцевали толпы изящных дам и галантных кавалеров. Теперь старинный дворец исполнял более прозаическое назначение, давая убежище редким и случайным проезжающим. Я объяснил фактору, что желаю переправить в Россию довольно тяжелую пачку книг и газет.
– То пану зараз будет сделано. Я приведу комиссионера от «Главной компании международного обмена тряпок и костей» (скажем так). Она ведет самую широкую контрабанду во всем мире. Комиссионер послужит господину.
Через полчаса фактор действительно возвратился с «комиссионером», изящным молодым человеком, отлично говорившим по-русски, польски и немецки.
«Комиссионер» осмотрел мой узел, взвесил его на руках и спросил, какого рода эти книги?
– Все они строжайше запрещены в России. Потому-то их и нужно переправить контрабандой.
– Собственно говоря, книгами мы не занимаемся, – ответил он. – Наше дело – шелковый товар. Если я стал бы платить нашим людям по весу, как за шелк, то должен был бы запросить с вас совсем не подходящую цену. На придачу, скажу вам правду, не люблю я путаться с книгами. Случись, не дай бог несчастье, так «они» сделают политический процесс. «Международная компания тряпок и костей» должна тогда будет заплатить громадные деньги, чтобы выпутаться из истории.
Должно быть вид у меня был очень опечаленный, потому что элегантный «комиссионер» сейчас же прибавил:
– Не огорчайтесь. Он (то есть фактор) устроит это дело для вас другим путем.
– То чистая правда! – весело заметил фактор, когда комиссионер ушел. Найдем сто дорог, чтобы угодить пану.
Через час он возвратился с другим молодым человеком, который взял узел, сложил его возле дверей и сказал:
– Добре, если пан выедет завтра, он найдет свои книги на такой-то станции в России. – Он объяснил мне подробно все.
– А сколько это будет стоить? – спросил я.
– А сколько пан хочет дать? – ответил он.
Я высыпал на стол все, что у меня было в кошельке, и сказал:
– Вот столько-то мне на дорогу. Остальные вам. Я поеду в третьем классе.
– Ай, ай, ай! – закрутили разом головами и фактор, и молодой человек Разве это можно, чтобы такой пан ехал третьим классом? Никогда! Нет, нет, нет!.. Для нас – десять рублей; потом фактору – два рубля, если вы довольны им. Мы не грабители какие-нибудь, а честные люди! – Они наотрез отказались взять больше денег.
Мне часто приходилось слышать с тех пор о честности еврейских контрабандистов на северо-западной границе. Впоследствии, когда наш кружок ввозил много книг из-за границы, а затем еще позже, когда так много революционеров переправлялось в Россию и из России, не было ни одного случая, чтобы контрабандист выдал кого-нибудь или чтобы он воспользовался исключительностью положения для вымогательства чрезмерной платы.
На другой день я выехал из Кракова. На условленной станции в России к моему вагону подошел носильщик и сказал так громко, чтобы его мог слышать стоявший на платформе жандарм: «Вот чемодан, который ваше сиятельство оставил вчера». Он вручил мне мой ценный пакет.
Я так был ему рад, что даже не остановился в Варшаве, а прямо отправился в Петербург, чтобы показать мои трофеи брату.
Глава XII
Нигилизм. – Его презрение к условностям, его правдивость. – Движение «в народ»
В это время развивалось сильное движение среди русской интеллигентной молодежи. Крепостное право было отменено. Но за два с половиной века существования оно породило целый мир привычек и обычаев, созданных рабством. Тут было и презрение к человеческой личности, и деспотизм отцов, и лицемерное подчинение со стороны жен, дочерей и сыновей. В начале XIX века бытовой деспотизм царил и в Западной Европе. Массу примеров дали Теккерей и Диккенс, но нигде он не расцвел таким пышным цветом, как в России. Вся русская жизнь – в семье, в отношениях начальника к подчиненному, офицера к солдату, хозяина к работнику – была проникну та им. Создался целый мир привычек, обычаев, способов мышления, предрассудков и нравственной трусости, выросший на почве бесправия. Даже лучшие люди того времени платили широкую дань этим нравам крепостного права.
Против них закон был бессилен. Лишь сильное общественное движение, которое нанесло бы удар самому корню зла, могло преобразовать привычки и обычаи по вседневной жизни. И в России это движение – борьба за индивидуальность – приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было Тургенев в своей замечательной повести «Отцы и дети» назвал его нигилизмом.
В Западной Европе нигилизм понимается совершенно неверно; в печати, например, постоянно смешивают его с терроризмом и упорно называют нигилизмом то революционное движение, которое вспыхнуло в России к концу царствования Александра II и закончилось трагической его смертью. Все это основано на недоразумении. Смешивать нигилизм с терроризмом все равно что смешать философское движение, как, например, стоицизм или позитивизм, с политическим движением, например республиканским. Терроризм был порожден особыми условиями политической борьбы в данный исторический момент Он жил и умер. Он может вновь воскреснуть и снова умереть. Нигилизм же наложил у нас свою печать на всю жизнь интеллигентного класса, а эта печать не скоро изгладится. Нигилизм без его грубоватых крайностей, неизбежных, впрочем, в каждом молодом движении, придал нашей интеллигенции тот своеобразный оттенок, которого, к великому нашему сожалению, мы, русские, не находим в западноевропейской жизни. Тот же нигилизм в одном из своих многочисленных проявлений придает многим нашим писателям их искренний характер, их манеру «мыслить вслух», которые так поражают европейских читателей.
Прежде всего нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам – и требовал, чтобы то же сделали другие, – от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авторитет – разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован.