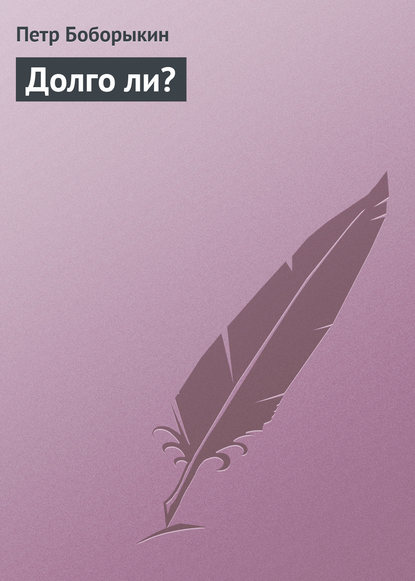По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Долго ли?
Год написания книги
1875
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как вас звать? научите, пожалуйста.
– Елена Ильинишна, – с некоторым нетерпением назвала девица Гущева.
– Так вот, Елена Ильинишна, как я думаю: если б даже ваша кузина была и совсем другой женщиной, – и то хорошо, что она обманывает, так сказать, своей жизненностью. Это не всякому дается.
Елена Ильинишна пододвинула к нему кресло и стала говорить тише:
– Я бы очень рада была, чтобы Юлия поближе познакомилась с вами, но вряд ли она способна на беседу с серьезным человеком… не хочу злословить, да она и позволяет говорить себе в глаза правду.
– Ах, Елена Ильинишна, не довольно ли серьезных-то бесед. Этак глядишь – и прожита жизнь в нестерпимой скуке.
Он даже махнул рукой. Этот жест заставил Елену Ильинишну опустить глаза и принять огорченное выражение.
– Право, – заговорила она не то обиженным, не то просительным тоном, – мне не хочется вас беспокоить и читать вам: вы совсем не в таком настроении.
Ему очень захотелось успокоить ее и заставить прочесть со вкусом отрывок, но у него что-то недостало на это уменья. Елена Ильинишна сидела в съеженной позе, обдергивая свою мантилью, из-под которой торчал сверток.
– Начните, – выговорил он наконец.
– Нет уж, я в другой раз, теперь нам могут опять помешать.
И точно, в гостиную вошла кузина, очень скоро переменившая свой туалет.
– Вы еще не читаете? – спросила она громко.
– А почему ты думаешь, что мы собрались читать? – тревожно возразила Елена Ильинишна.
– Вот у тебя манускрипт в руках.
Она сделала такое движение головой, что Лука Иванович невольно усмехнулся.
– Пожалуйста, – обратилась к нему кузина, – успокойте ее. У ней все бесконечные сомнения. Я уже вам говорила, что она ночей не спит над одним словом.
– Как же это ты успела? – почти сконфуженно выговорила Елена Ильинишна.
– И еще много кой-чего. Сердись – не сердись, Елена! Ведь я за себя хлопочу. Я тебя успокоить не могу. Ты моему вкусу не веришь. Чем скорее будет чтенье, тем для меня лучше.
– Лука Иванович не может же посвятить мне целый день.
– Ты хочешь сказать, что я вам мешаю? извини, пожалуйста, я сейчас скроюсь. А вы, – обратилась она к Луке Ивановичу, – не кончайте в один сеанс, а когда захочется отдохнуть от литературы, поболтаем… только без Елены; а то она сейчас скажет, что в нашем разговоре нет интеллигентного содержания.
Елена Ильинишна улыбнулась. Ее напряженность несколько прошла от смелой болтовни кузины. Луке Ивановичу опять сделалось веселее с той минуты, как эта пышущая здоровьем и бойкостью женщина появилась в гостиную. Если б он сумел, он бы задержал ее; но он не сумел этого и с унынием подумал о целой тетради, которою сбиралась угостить его девица Гущева.
– До свидания, – кивнула ему кузина с той же улыбкой, с которой она оставила их в первый раз. – Обедать меня не жди, Елена; вы можете хоть целый день читать. Ты знаешь, куда я еду?
– Кто ж это может знать? – отозвалась уже добродушнее Елена Ильинишна.
– К тетушке Вилковой: там каждый месяц собирается фамильный синклит, я на них навожу священный ужас.
– Почему же так? – позволил себе спросить Лука Иванович.
– Право, они на меня смотрят, как на какого-то зверя из Апокалипсиса. Надо видеть, какой это мир, чтобы судить о впечатлении…
– Ты там до вечера?
– Да, заеду только переодеться – и прямо в купеческий!
– Ах, Юлия, ты вчера легла в седьмом часу утра!
– Что ж такое? у меня такие красные щеки, что надо же им как-нибудь побледнеть.
– И то сказать, – заметила Елена Ильинишна и пожала плечами.
"Вот-вот сейчас уйдет; а жаль", – подумал Лука Иванович, слушая весь этот странный для него разговор, в котором бы ему хотелось принять участие, но не в присутствии девицы Гущевой.
Когда он приподнял голову, кузины уже не было. Он даже не заметил, в каком она платье. На него уставились вопросительные глаза Елены Ильинишны, говорившие совсем о другой материи.
VIII
Литературное чтение не удалось. Лука Иванович старался быть как можно мягче и благодушнее, но его тон почему-то неприятно волновал романистку. Она начала не то что придираться к нему, но задавать разные такие вопросы, на которые он затруднялся отвечать. Он очень просто заметил ей в одном месте, что можно бы совсем выкинуть подробности, которые автор, как девица, вряд ли изучил. Елена Ильинишна просто разогорчилась, так что Лука Иванович должен был долго ее успокаивать. Говорить ей настоящую правду он окончательно отказался, видя, как она болезненно тревожна. Она слишком верила в свое призвание, слишком «священнодействовала», как он заметил про себя. Некоторая наблюдательность у ней была и языком она владела; но замыслы ее отзывались «книжкой»; рассуждений и разговоров было слишком много и в том, что он прежде читал, и в новой ее вещи. А про наивности и говорить было нечего. Если б Лука Иванович высказал ей все это тут же, беседа кончилась бы, пожалуй, слезами. К этому исходу и без того клонилось дело.
– Вы хоть не ко мне зайдите, – сказала ему на прощание нервная девица. – Кузина вас заинтересовала.
И так она это выговорила, что он, чуть не с озорством, ответил:
– Зайду; поклонитесь вашей кузине!
Когда он спускался с лестницы, его окликнул швейцар, Петр Павлович:
– Желаю вам всякого зла, – крикнул он, стоя у перил.
Лука Иванович поднял голову и удивленно обернулся.
– Избежать! – добавил старик успокоительно.
Эту прибаутку проделывал он аккуратно с каждым новым лицом.
На улице Лука Иванович, с улыбкой, вызванной чудачеством швейцара, остановился и сообразил, в какую сторону ему взять. Погода испортилась. Пошел опять мокрый снег. Извозчика он, однако, не взял – не на что было. Вчерашнюю десятирублевую бумажку он оставил на расход, уходя из дому. Ему стало вдруг и больно, и обидно, и рассердился он на себя за то, что мог больше часу пустословить в квартире г-жи Патера, когда ему прежде всего следовало бы найти те двадцать пять рублей, которые ему были до зарезу нужны. Не мог же он забыть, с какой мыслью вышел сегодня из дому. Эта бесконечная нужда в красненьких и лиловеньких бумажках переполнила чашу. Так безысходно перебиваться показалось ему невыносимо-унизительным и просто "подлым", как он сам выразился.
Часов у него тоже не было; но он сообразил, что не может быть позднее половины четвертого.
Ровно в четыре часа он звонил у своего приятеля, Николая Петровича Проскудина. Звонил он на авось. Проскудин был адвокат и в эти часы находился обыкновенно в окружном суде. Всего чаще сталкивались они с ним в обеденное время в трактире «Старый Пекин», или, как называл его Лука Иванович, «Вье Пекин», где они долго толковали всегда по послеобедам.
Проскудин оказался, однако, дома. Это был приземистый малый, таких лет, как Лука Иванович, т. е. сильно за тридцать, с круглой белокурой бородой, с пухлым лицом и довольно большой, блестящей лысиной. Глаза его щурились и часто смеялись. Он сам отворил гостю.
– В форме? – спросил Лука Иванович, подавая ему руку и указывая на фрак Проскудина со значком.
– Да, уж покляузничал немножко, – ответил тот жидким, несколько дребезжащим голосом.