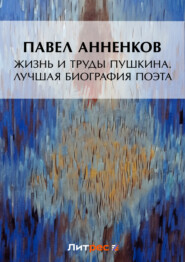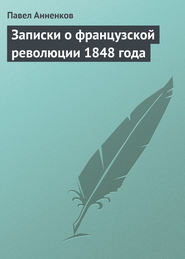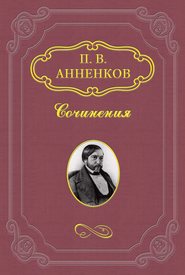По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Материалы для биографии А. С. Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть…
Так оканчивалась шестая глава «Онегина» с заметкой: «10 августа»[282 - Анненков приводит часть предпоследней, XLV строфы шестой главы «Евгения Онегина». Эта строфа была написана 10 августа 1827 года.]. Две дополнительные строфы ее с описанием светского общества принадлежат уже к пребыванию поэта в Москве…
Глава XII
Переезд в Москву и жизнь Пушкина в обеих столицах. 1826–1827 г.:Осенью 1826 (сентября 3) Пушкин получает позволение пользоваться советами врачей в Москве, представлен государю императору. – Пушкин снова в деревне, где получает «Тригорское» Языкова, и в ноябре опять является в Москву. – Письмо к Алексееву с дороги. – Письмо к Языкову с приглашением участвовать в «Московском вестнике». – Стансы «В надежде славы…». – Рассуждение «О воспитании», составленное по поручению начальства. – Зима и весна 1826–1827 г. в Москве, жизнь его там и недовольство жизнию. – Летом 1827 г. Пушкин в Петербурге, а к осени снова возвращается в деревню.
3 сентября получено было во Пскове всемилостивейшее разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов. Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву, возвратила его городской жизни, которую он так любил, и, вместе с тем, указала ему обязанности, лежавшие на нем, как на гражданине и писателе, который должен употребить отличные свои способности на предание потомству славы нашего отечества. Тотчас по прибытии в Москву, Пушкин имел счастие быть представлен государю императору. Скажем здесь, что впоследствии, во всех случаях жизни своей, Пушкин вспоминал о наставлениях, преподанных ему в это время отеческою снисходительностью монарха, не иначе как с чувством благоговения и умилением[283 - Стремясь расположить в свою пользу общественное мнение, Николай I вернул в сентябре 1826 года Пушкина из ссылки. В ночь с 3 на 4 сентября а Михайловское прибыл фельдъегерь с приказанием Пушкину немедленно отправиться в Москву, где в то время проходили коронационные торжества. 8 сентября состоялась встреча поэта с царем; о содержании беседы между ними известно мало. Николай пытался привлечь Пушкина к себе, направить его литературную деятельность. Он не только предоставил поэту свободу, но и заменил для него общую цензуру своей личной. Однако новые отношения между Пушкиным и властями складывались, вопреки оценке Анненкова, сложно и с годами все более тягостно для писателя.].
Москва приняла его с восторгом, и, долго лишенный удовольствий столицы, он предался им с энергией, которая было заснула в деревне. Всю зиму он почти не брался за перо, наслаждаясь и славой, которая всюду встречала его, и заискивающим вниманием окружающих. Успехи в обществе снова стояли на первом плане в его жизни, и снова овладела им та жажда перемен мест, то искание впечатлений, встреч и происшествий, какими отличалась его первая молодость и, преимущественно, одесская и кишиневская жизнь. Утомление явилось и тут в свою очередь, в конце 1829 года, как прежде мы видели в Михайловском, пять лет тому назад.
Едва осмотревшись в Москве, Пушкин уехал снова в деревню для приведения в порядок дел и, преимущественно, для разбора и укладки книг своих, которые намеревался отправить в одну из столиц[162 - В деревне он нашел послание Н.М. Языкова, известное «Тригорское», и с восторгом писал ему: «Милый Н<иколай> М<ихайлович>! Сейчас из Москвы, сейчас видел ваше «Тригорское». Спешу обнять и поздравить вас. Вы ничего лучше не написали, но напишете много лучшего. Дай вам бог здоровья, осторожности, благоденственного и мирного жития!»[815 - Письмо к Н.М. Языкову от 9 ноября 1826 года.]]. В ноябре он уже писал из Пскова, собираясь снова на возвратный путь в Москву, послание к Н.С. А<лексее>ву, товарищу своего бессарабского житья-бытья:
«Приди, о друг, дай прежних вдохновений.
Минувшего мне жизнию повей…[284 - Из «Двенадцати спящих дев» Жуковского.]
Не могу изъяснить тебе мои чувства при получении твоего письма… Кишиневские звуки, берег Быка[285 - Бык – река в Кишиневе.]… милый мой: ты возвратил меня Бессарабии. Я спять в своих развалинах – в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой чистой избушке[286 - «Развалины» – комната Пушкина в доме Инзова, пострадавшем во время землетрясения; впоследствии поэт переехал к Алексееву.]… Как ты умен, что написал ко мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хотя и часто о тебе вспоминаю… Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего друга, или в креслах театральных, или в ресторации за обедом. Нет – так и уехал в Псков. Так и теперь опять еду в Белокаменную. Надежды нет или очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости Кишинева стану тебя потчевать новостями московскими.
Прощай, отшельник бессарабский,
Лукавый друг души моей,
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей»[287 - Письмо к Н.С. Алексееву от 1 декабря 1826 года.].
По прибытии в Москву он опять пишет несколько строк к Языкову, но в этих строках – от 21 ноября 1826 г. – уже заключается любопытное свидетельство, что издание журнала, о котором Пушкин думал еще в деревне, тогда было решено:
«Письмо ваше получил я в Пскове и хотел отвечать из Новгорода – вам, достойному певцу того и другого. Пишу, однако ж, из Москвы, куда вчера привез я ваше «Тригорское». Вы знаете по газетам, что я участвую в «Моск<овском> вестнике», следственно и вы также. Адресуйте же ваши стихи в Москву на Молчановку, в дом Ренкевичевой, откуда передам их во храм бессмертия. Непременно будьте же наш. Погодин вам убедительно кланяется.
Я устал и болен – потому вам и не пишу более. В<ульфу> кланяюсь, обещая мое высокое покровительство.
21 ноября[288 - Описка Пушкина: письмо к Н.М. Языкову написано 21 декабря.]. «Тригорское» ваше с вашего позволения напечатано будет во 2 № «Моск<овского> вестника».
Рады ли вы журналу? Пора задушить альманахи. Дельвиг наш. Один Вяземский остался тверд и верен «Телеграфу» – жаль, но что же делать?»
Итак, Пушкин возвратился в Москву 20 ноября[289 - 20 декабря (см. предыд.).] и 22 декабря уже писал в доме Зуб<ковых>, своих знакомых, известные и превосходные стансы «В надежде славы и добра…». Тогда же представил он свое рассуждение «О воспитании юношества», составленное им по поручению высшего начальства[290 - Записка «О народном воспитании» (написана 15 ноября 1826 года; впервые опубликована в 1884 году) была составлена Пушкиным по распоряжению Николая I. Это задание имело, по словам В.В. Томашевского, «характер политического экзамена».]. Небольшое рассуждение это было единственным трудом Пушкина шумной зимой 1826–1827 года, если исключим всегдашние его занятия своим «Онегиным». Несколько черновых бессвязных отрывков трактата о воспитании, сохранившихся в его бумагах, не дают никакой ясной идеи о сочинении; но из отзыва, воспоследовавшего на рассуждение, можно заключить об односторонности основной мысли автора. Изъявляя ему признательность за некоторые отдельные истины, высшее начальство поставило ему на вид, что правило, принятое сочинителем, будто просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило неверное; ибо при сем упущены из виду нравственные качества и, наконец, примерное служение, усердие, которые должно предпочесть просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному[291 - П.В. Анненков близко к тексту пересказывает здесь содержание письма к Пушкину А. X. Бенкендорфа от 23 декабря 1826 года. В своем письме Бенкендорф передавал оценку, данную записке Николаем.]. Сам Пушкин сознавал недостатки своего труда, извиняя их малым знакомством с предметом, который дотоле никогда не занимал его мыслей, и прося позволения заняться чем-либо, более ему близким и известным[292 - Эта просьба высказана Пушкиным в конце его записки «О народном воспитании».].
Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве; в начале мая месяца 1827 г. он получил дозволение на пребывание и в Петербурге. В июне он уже был на берегах Невы и 14-го июля написал там послание к Языкову («К тебе сбирался я давно…»)[293 - Письмо Пушкина к Языкову, содержащее послание «К тебе сбирался я давно…», написано 14 июня 1828 года.], а 27 июля стихотворение «Три ключа»[294 - Датируется 18 июня 1827 года.].
Московская его жизнь, как мы уже сказали, была рядом забав и вместе рядом торжеств. Впервые ознакомил он тут друзей с своей «Комедией о Борисе Годунове»: удивление и похвалы были общие. Пушкин еще не пришел к тому сомнению о возможности ее успеха, в котором находился после, и не без основания, как известно. Вечер 1826 года, когда в первый раз прочел он свое произведение в доме Вен<евитиновых>, если не ошибаемся, доселе вспоминается многими с восторгом. Неожиданность появления этой народной драмы, не имевшей связи ни с настоящими, ни с прошедшими явлениями русской словесности, да и оставшейся без последователей и продолжения; сам чтец, получивший какую-то удивительно смелую и оригинальную красоту в собственном вдохновении, – все это осталось неизгладимо в памяти свидетелей[295 - Ср.: Погодин М.П. Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве». – В кн.: П. в восп., т. 2, с. 27–28.]. В первое время Пушкин жил с одним из своих приятелей на Собачьей площадке, в доме, кажется, принадлежащем теперь г-ну Левенталю. После кратковременной отлучки он уже поселился, как мы видели, на Молчановке, в доме Ренкевичевой[296 - Сведения о местоположении московской квартиры Пушкина уточнены С.А. Соболевским, с которым жил поэт: «…он <…> жил в <…> доме Ринкевича, который, как сказано, на Собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку, из чего и вышли у А(нненкова) две местности» (см.: Беляев М. Соболевский о Пушкине. (Из переписки С.А. Соболевского с М.Н. Лонгиновым). – В кн.: ПиС, вып. XXXI–XXXII. Л., 1927, с. 40).]. Он вставал поздно после балов и вообще долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его уже была полна знакомых и посетителей, между которыми находился один пожилой человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но любимый им за прибаутки, присказки, народные шутки[297 - Майор Алексей Гаврилович Носов (умер в 1844 году). (См.: Модзалевский, с. 339.)]. Он имел право входа к Пушкину во всякое время и платил ему своим добром за гостеприимство. В городской жизни, в ее шуме и волнении, Пушкин был в настоящей своей сфере. Это можно видеть даже из нескольких строк, начертанных карандашом на перебеленной копии «Бориса Годунова»: «Voici ma tragеdie. Je voulais vous l'apporter moi-m?me, mais tous ces jours – j'ai fait le jeune homme…»[298 - Часть записки к неизвестному лицу, датируется апрелем – маем 1830 года.][163 - «Вот моя трагедия. Я хотел сам занести ее к вам, но все это время я вел себя, как юноша…» (франц.). – Ред.]
Глава XIII
«Mосковский вестник»:Письмо к Погодину со стихами «Пока не требует поэта…» для его журнала. – Основание «Московского вестника», его направление, сущность теорий «Московского вестника». – Теория отражается в стихотворениях поэта «Чернь», «Поэт, не дорожи любовию народной…» и проч. – Перстень, бережно хранимый Пушкиным. – Пушкин по призванию и по теории становится художником про себя. – Его внутренний мир. – Стихи «Миг вожделенный настал…» и неизданная строфа «С толпой не делишь ты ни гнева…». – Мысль о призвании истинного поэта успокаивает Пушкина в волнениях жизни. – Заботливость Пушкина об издании «Московского вестника». – Альманах «Урания» 1826 <г.>, отрывок из письма к Погодину с осуждением альманаха. – Другое письмо, свидетельствующее о важности, какую, наоборот, придавал он журналу.
Только неожиданные удары и неразрешимые противоречия, в которых он сам запутывался, возвращали его от времени до времени к самому себе. В непрерывной цепи удовольствий, которые подчас имеют свои тяжелые обязанности, а иногда понуждают к тем опрометчивым шагам, для исправления которых нужно так много энергии, пролетела зима 1827 г. для Пушкина, оставив ему несколько сладких воспоминаний и много горечи на душе. Он уехал из Москвы весной, сперва в Петербург, потом в деревню, но недовольный собой и недовольный другими. Светлый взгляд на себя и внутренняя тишина возвращались к Пушкину почти тотчас, как он сходил с почвы, на которой страсти его приобретали всегда особенную силу. Примеров этому много в жизни его. Прибыв в Михайловское, он писал оттуда М.П. Погодину, посылая несколько стихотворений в журнал «Московский вестник»:
«Что вы делаете? Что наш «Вестник»? Посылаю вам лоскуток «Онегина» ему на шапку. «Фауст»[299 - Имеется в виду «Сцена из Фауста» (1825), опубликованная в 1828 году в MB под названием «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем».] и другие стихи не вышли еще из цензуры. Я убежал в деревню, почуя рифмы»[300 - 2-я половина (не позднее 30-го) августа 1826 года.].
И вслед за этими словами Пушкин начинает свое превосходное стихотворение:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен… —
которое в одно время представляет и общий поэтический образ, и частное изображение его нравственного состояния в то время.
Скажем несколько слов о новом журнале, существование которого Пушкин признавал одно время совершенно необходимым как для себя, так и для литературы. Особенно важно для биографии его то обстоятельство, что направление журнала укрепило и развило в нем тот взгляд на художника и искусство, который он выразил в известных своих стихотворениях «Чернь», «Поэт», «Эхо», «Поэт, не дорожи любовию народной…» и который заслуживает подробного рассмотрения.
Вероятно, еще многие помнят усилия «Московского вестника» ознакомить публику прямо с немецкими теориями изящного помимо толкований и изменений французских критиков. Такие же попытки альманаха «Мнемозина» остались безуспешны, особенно за туманность языка, еще необразованного тогда для логических тонкостей и отвлечений. «Московский вестник» открыл другой путь: он обратил преимущественно внимание на осязательную сторону немецких теорий, их страстную любовь к предмету и романтическое одушевление. Без всякой последовательности и строгой системы журнал прилагал отрывки из Жан-Поля, Тика и Шеллинга. Правда, что отрывочность эту тогда же ставили в упрек журналу даже его приверженцы, как мы имели случай видеть в неизданной переписке Туманского с Пушкиным.
Статьи сотрудников перерабатывали только положения немецких писателей, облекая их в ту восторженную и отчасти сентиментальную форму, которая составила цвет журнала и тайну его влияния на молодых людей. Лирический язык, каким писались эти вообще короткие статьи, был, может статься, тогда способнее, чем всякое другое изложение, держать в напряжении пробуждающееся эстетическое чувство и порождать стремление к изящному, в чем и состояла цель журнала. Пушкин принял деятельное участие в судьбе его, посвятил ему много своих произведений и как человек, понимавший практическую сторону всякого дела, рассчитывал на 10 тысяч дохода за свое сотрудничество[301 - Такую сумму должна была ежегодно выплачивать Пушкину за его участие редакция «Московского вестника». Эти расчеты далеко не оправдались.]. Коммерческие его соображения удались только вполовину, но важнее всего этого то обстоятельство, что из круга молодых людей, содействовавших успеху журнала, вынес он свой полный, установившийся взгляд на художника и искусство[302 - Анненков преувеличивает влияние «любомудров» на формирование пушкинских взглядов; их философская и эстетическая позиция и позиция Пушкина далеко не совпадали.]. Тем быстрее усвоил он себе их теорию творчества, что она только развила и дополнила собственное его понимание предмета, уже высказанное им в известном «Разговоре книгопродавца с поэтом», появившемся за три года до основания журнала.
Сущность теории состояла в весьма строгом взгляде как на призвание художника, так и на задачу самого искусства. Последнее определяла она проявлением бесконечного в ограниченных или конечных формах и создавала ему таким образом цель высокую, независимую от требований современности. Идеальное понимание искусства само собой приводило к мысли об исключительном и важном значении художника, посвятившего ему жизнь свою. Как служитель изящного, он не принадлежал толпе, не разделял ее стремлений и не признавал ее нужд. Под действием этой теории, имевшей на Пушкина сильное влияние, написал он свое стихотворение «Чернь», названное им в рукописи «Ямб». Заключительные стихи его превосходно выражают сущность всего воззрения:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв[303 - Стихотворение «Поэт и толпа», названное при первой публикации в MB «Чернь», было написано в 1828 году.].
В дальнейшем своем развитии учение ставило художника и единственным верным ценителем своего произведения. По сущности теории, художник не нуждался в сочувствии окружающих, не имел надобности отдавать отчета в своих сношениях с идеалом и один знал первую причину и настоящую цель своих произведений. В превосходном стихотворении «Поэт, не дорожи любовию народной…» Пушкин отвергал всякое постороннее вмешательство этими гордыми словами, обращенными к художнику:
…..Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самой тебе. Ты сам – свой высший суд[304 - Сонет «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной…») написан 7 июля 1830 года.]…
Условия самого таланта и внешние обстоятельства еще более укрепили в поэте нашем этот взгляд на художника и, по отражению идеи, на собственное призвание. Талант Пушкина был тайною для него самого, которую он не мог объяснить иначе, как сравнением с явлениями физической природы, действующими по законам, им неведомым. Вспомним его описание поэта в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный и проч.,
вспомним еще его сравнение поэта с эхом в известной пьесе «Эхо»:
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, грешит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
«Таков и ты, поэт!» – восклицает Пушкин в конце стихотворения[305 - Стихотворение написано в 1831 году.]. Действительно, его поэтическая способность должна была ему самому казаться неизъяснимым предопределением, потому что если обширное чтение, образованность, размышление давали ей материалы и пищу, то породить ее были не в силах. Он так хорошо чувствовал это, что, по известной склонности своей к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то кабалистическими знаками и бережно хранимого им. Перстень этот находится теперь во владении В.И. Даля[306 - См.: Даль В.И. Воспоминания о Пушкине. – В кн.: П. в восп., т. 2, с. 225).]. Не менее высоко должен он был ценить и искусство вообще в приложении к самому себе. Кроме славы и обширных средств существования, какие были ему всегда потребны, только в искусстве находил он благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собой и сознавал себя в высоком нравственном значении. Так теория искусства сходилась здесь с самой жизнью. Впоследствии холодность публики и невнимание ее к лучшим, зрелым его произведениям еще глубже погрузили его в художническое уединение, которое он воспевал. Действительно, Пушкин сделался и творцом, независимым от вкуса и расположения публики, и единственным верным судьей своих произведений. Обстоятельства много способствовали к оправданию и укоренению в нем отвлеченной теории, которая получила впоследствии еще сильнейшее развитие. К концу своего поприща Пушкин пришел к мысли и убеждению, что самый труд, как предмет, назначенный для общего достояния всех, ничего не значит в глазах поэта, а важны для последнего только высокие наслаждения, доставленные течением труда. Мы находим уже эту мысль в антологическом стихотворении «Миг вожделенный настал…», но ярче выразилась она в одном неизданном стихотворении, которое прилагаем здесь в точности:
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни удивленья, ни напева,
Ни нужд, ни смеха, ни труда.
Глупец кричит: «Куда, куда?
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть…
Так оканчивалась шестая глава «Онегина» с заметкой: «10 августа»[282 - Анненков приводит часть предпоследней, XLV строфы шестой главы «Евгения Онегина». Эта строфа была написана 10 августа 1827 года.]. Две дополнительные строфы ее с описанием светского общества принадлежат уже к пребыванию поэта в Москве…
Глава XII
Переезд в Москву и жизнь Пушкина в обеих столицах. 1826–1827 г.:Осенью 1826 (сентября 3) Пушкин получает позволение пользоваться советами врачей в Москве, представлен государю императору. – Пушкин снова в деревне, где получает «Тригорское» Языкова, и в ноябре опять является в Москву. – Письмо к Алексееву с дороги. – Письмо к Языкову с приглашением участвовать в «Московском вестнике». – Стансы «В надежде славы…». – Рассуждение «О воспитании», составленное по поручению начальства. – Зима и весна 1826–1827 г. в Москве, жизнь его там и недовольство жизнию. – Летом 1827 г. Пушкин в Петербурге, а к осени снова возвращается в деревню.
3 сентября получено было во Пскове всемилостивейшее разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов. Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву, возвратила его городской жизни, которую он так любил, и, вместе с тем, указала ему обязанности, лежавшие на нем, как на гражданине и писателе, который должен употребить отличные свои способности на предание потомству славы нашего отечества. Тотчас по прибытии в Москву, Пушкин имел счастие быть представлен государю императору. Скажем здесь, что впоследствии, во всех случаях жизни своей, Пушкин вспоминал о наставлениях, преподанных ему в это время отеческою снисходительностью монарха, не иначе как с чувством благоговения и умилением[283 - Стремясь расположить в свою пользу общественное мнение, Николай I вернул в сентябре 1826 года Пушкина из ссылки. В ночь с 3 на 4 сентября а Михайловское прибыл фельдъегерь с приказанием Пушкину немедленно отправиться в Москву, где в то время проходили коронационные торжества. 8 сентября состоялась встреча поэта с царем; о содержании беседы между ними известно мало. Николай пытался привлечь Пушкина к себе, направить его литературную деятельность. Он не только предоставил поэту свободу, но и заменил для него общую цензуру своей личной. Однако новые отношения между Пушкиным и властями складывались, вопреки оценке Анненкова, сложно и с годами все более тягостно для писателя.].
Москва приняла его с восторгом, и, долго лишенный удовольствий столицы, он предался им с энергией, которая было заснула в деревне. Всю зиму он почти не брался за перо, наслаждаясь и славой, которая всюду встречала его, и заискивающим вниманием окружающих. Успехи в обществе снова стояли на первом плане в его жизни, и снова овладела им та жажда перемен мест, то искание впечатлений, встреч и происшествий, какими отличалась его первая молодость и, преимущественно, одесская и кишиневская жизнь. Утомление явилось и тут в свою очередь, в конце 1829 года, как прежде мы видели в Михайловском, пять лет тому назад.
Едва осмотревшись в Москве, Пушкин уехал снова в деревню для приведения в порядок дел и, преимущественно, для разбора и укладки книг своих, которые намеревался отправить в одну из столиц[162 - В деревне он нашел послание Н.М. Языкова, известное «Тригорское», и с восторгом писал ему: «Милый Н<иколай> М<ихайлович>! Сейчас из Москвы, сейчас видел ваше «Тригорское». Спешу обнять и поздравить вас. Вы ничего лучше не написали, но напишете много лучшего. Дай вам бог здоровья, осторожности, благоденственного и мирного жития!»[815 - Письмо к Н.М. Языкову от 9 ноября 1826 года.]]. В ноябре он уже писал из Пскова, собираясь снова на возвратный путь в Москву, послание к Н.С. А<лексее>ву, товарищу своего бессарабского житья-бытья:
«Приди, о друг, дай прежних вдохновений.
Минувшего мне жизнию повей…[284 - Из «Двенадцати спящих дев» Жуковского.]
Не могу изъяснить тебе мои чувства при получении твоего письма… Кишиневские звуки, берег Быка[285 - Бык – река в Кишиневе.]… милый мой: ты возвратил меня Бессарабии. Я спять в своих развалинах – в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой чистой избушке[286 - «Развалины» – комната Пушкина в доме Инзова, пострадавшем во время землетрясения; впоследствии поэт переехал к Алексееву.]… Как ты умен, что написал ко мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хотя и часто о тебе вспоминаю… Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего друга, или в креслах театральных, или в ресторации за обедом. Нет – так и уехал в Псков. Так и теперь опять еду в Белокаменную. Надежды нет или очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости Кишинева стану тебя потчевать новостями московскими.
Прощай, отшельник бессарабский,
Лукавый друг души моей,
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей»[287 - Письмо к Н.С. Алексееву от 1 декабря 1826 года.].
По прибытии в Москву он опять пишет несколько строк к Языкову, но в этих строках – от 21 ноября 1826 г. – уже заключается любопытное свидетельство, что издание журнала, о котором Пушкин думал еще в деревне, тогда было решено:
«Письмо ваше получил я в Пскове и хотел отвечать из Новгорода – вам, достойному певцу того и другого. Пишу, однако ж, из Москвы, куда вчера привез я ваше «Тригорское». Вы знаете по газетам, что я участвую в «Моск<овском> вестнике», следственно и вы также. Адресуйте же ваши стихи в Москву на Молчановку, в дом Ренкевичевой, откуда передам их во храм бессмертия. Непременно будьте же наш. Погодин вам убедительно кланяется.
Я устал и болен – потому вам и не пишу более. В<ульфу> кланяюсь, обещая мое высокое покровительство.
21 ноября[288 - Описка Пушкина: письмо к Н.М. Языкову написано 21 декабря.]. «Тригорское» ваше с вашего позволения напечатано будет во 2 № «Моск<овского> вестника».
Рады ли вы журналу? Пора задушить альманахи. Дельвиг наш. Один Вяземский остался тверд и верен «Телеграфу» – жаль, но что же делать?»
Итак, Пушкин возвратился в Москву 20 ноября[289 - 20 декабря (см. предыд.).] и 22 декабря уже писал в доме Зуб<ковых>, своих знакомых, известные и превосходные стансы «В надежде славы и добра…». Тогда же представил он свое рассуждение «О воспитании юношества», составленное им по поручению высшего начальства[290 - Записка «О народном воспитании» (написана 15 ноября 1826 года; впервые опубликована в 1884 году) была составлена Пушкиным по распоряжению Николая I. Это задание имело, по словам В.В. Томашевского, «характер политического экзамена».]. Небольшое рассуждение это было единственным трудом Пушкина шумной зимой 1826–1827 года, если исключим всегдашние его занятия своим «Онегиным». Несколько черновых бессвязных отрывков трактата о воспитании, сохранившихся в его бумагах, не дают никакой ясной идеи о сочинении; но из отзыва, воспоследовавшего на рассуждение, можно заключить об односторонности основной мысли автора. Изъявляя ему признательность за некоторые отдельные истины, высшее начальство поставило ему на вид, что правило, принятое сочинителем, будто просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило неверное; ибо при сем упущены из виду нравственные качества и, наконец, примерное служение, усердие, которые должно предпочесть просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному[291 - П.В. Анненков близко к тексту пересказывает здесь содержание письма к Пушкину А. X. Бенкендорфа от 23 декабря 1826 года. В своем письме Бенкендорф передавал оценку, данную записке Николаем.]. Сам Пушкин сознавал недостатки своего труда, извиняя их малым знакомством с предметом, который дотоле никогда не занимал его мыслей, и прося позволения заняться чем-либо, более ему близким и известным[292 - Эта просьба высказана Пушкиным в конце его записки «О народном воспитании».].
Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве; в начале мая месяца 1827 г. он получил дозволение на пребывание и в Петербурге. В июне он уже был на берегах Невы и 14-го июля написал там послание к Языкову («К тебе сбирался я давно…»)[293 - Письмо Пушкина к Языкову, содержащее послание «К тебе сбирался я давно…», написано 14 июня 1828 года.], а 27 июля стихотворение «Три ключа»[294 - Датируется 18 июня 1827 года.].
Московская его жизнь, как мы уже сказали, была рядом забав и вместе рядом торжеств. Впервые ознакомил он тут друзей с своей «Комедией о Борисе Годунове»: удивление и похвалы были общие. Пушкин еще не пришел к тому сомнению о возможности ее успеха, в котором находился после, и не без основания, как известно. Вечер 1826 года, когда в первый раз прочел он свое произведение в доме Вен<евитиновых>, если не ошибаемся, доселе вспоминается многими с восторгом. Неожиданность появления этой народной драмы, не имевшей связи ни с настоящими, ни с прошедшими явлениями русской словесности, да и оставшейся без последователей и продолжения; сам чтец, получивший какую-то удивительно смелую и оригинальную красоту в собственном вдохновении, – все это осталось неизгладимо в памяти свидетелей[295 - Ср.: Погодин М.П. Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве». – В кн.: П. в восп., т. 2, с. 27–28.]. В первое время Пушкин жил с одним из своих приятелей на Собачьей площадке, в доме, кажется, принадлежащем теперь г-ну Левенталю. После кратковременной отлучки он уже поселился, как мы видели, на Молчановке, в доме Ренкевичевой[296 - Сведения о местоположении московской квартиры Пушкина уточнены С.А. Соболевским, с которым жил поэт: «…он <…> жил в <…> доме Ринкевича, который, как сказано, на Собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку, из чего и вышли у А(нненкова) две местности» (см.: Беляев М. Соболевский о Пушкине. (Из переписки С.А. Соболевского с М.Н. Лонгиновым). – В кн.: ПиС, вып. XXXI–XXXII. Л., 1927, с. 40).]. Он вставал поздно после балов и вообще долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его уже была полна знакомых и посетителей, между которыми находился один пожилой человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но любимый им за прибаутки, присказки, народные шутки[297 - Майор Алексей Гаврилович Носов (умер в 1844 году). (См.: Модзалевский, с. 339.)]. Он имел право входа к Пушкину во всякое время и платил ему своим добром за гостеприимство. В городской жизни, в ее шуме и волнении, Пушкин был в настоящей своей сфере. Это можно видеть даже из нескольких строк, начертанных карандашом на перебеленной копии «Бориса Годунова»: «Voici ma tragеdie. Je voulais vous l'apporter moi-m?me, mais tous ces jours – j'ai fait le jeune homme…»[298 - Часть записки к неизвестному лицу, датируется апрелем – маем 1830 года.][163 - «Вот моя трагедия. Я хотел сам занести ее к вам, но все это время я вел себя, как юноша…» (франц.). – Ред.]
Глава XIII
«Mосковский вестник»:Письмо к Погодину со стихами «Пока не требует поэта…» для его журнала. – Основание «Московского вестника», его направление, сущность теорий «Московского вестника». – Теория отражается в стихотворениях поэта «Чернь», «Поэт, не дорожи любовию народной…» и проч. – Перстень, бережно хранимый Пушкиным. – Пушкин по призванию и по теории становится художником про себя. – Его внутренний мир. – Стихи «Миг вожделенный настал…» и неизданная строфа «С толпой не делишь ты ни гнева…». – Мысль о призвании истинного поэта успокаивает Пушкина в волнениях жизни. – Заботливость Пушкина об издании «Московского вестника». – Альманах «Урания» 1826 <г.>, отрывок из письма к Погодину с осуждением альманаха. – Другое письмо, свидетельствующее о важности, какую, наоборот, придавал он журналу.
Только неожиданные удары и неразрешимые противоречия, в которых он сам запутывался, возвращали его от времени до времени к самому себе. В непрерывной цепи удовольствий, которые подчас имеют свои тяжелые обязанности, а иногда понуждают к тем опрометчивым шагам, для исправления которых нужно так много энергии, пролетела зима 1827 г. для Пушкина, оставив ему несколько сладких воспоминаний и много горечи на душе. Он уехал из Москвы весной, сперва в Петербург, потом в деревню, но недовольный собой и недовольный другими. Светлый взгляд на себя и внутренняя тишина возвращались к Пушкину почти тотчас, как он сходил с почвы, на которой страсти его приобретали всегда особенную силу. Примеров этому много в жизни его. Прибыв в Михайловское, он писал оттуда М.П. Погодину, посылая несколько стихотворений в журнал «Московский вестник»:
«Что вы делаете? Что наш «Вестник»? Посылаю вам лоскуток «Онегина» ему на шапку. «Фауст»[299 - Имеется в виду «Сцена из Фауста» (1825), опубликованная в 1828 году в MB под названием «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем».] и другие стихи не вышли еще из цензуры. Я убежал в деревню, почуя рифмы»[300 - 2-я половина (не позднее 30-го) августа 1826 года.].
И вслед за этими словами Пушкин начинает свое превосходное стихотворение:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен… —
которое в одно время представляет и общий поэтический образ, и частное изображение его нравственного состояния в то время.
Скажем несколько слов о новом журнале, существование которого Пушкин признавал одно время совершенно необходимым как для себя, так и для литературы. Особенно важно для биографии его то обстоятельство, что направление журнала укрепило и развило в нем тот взгляд на художника и искусство, который он выразил в известных своих стихотворениях «Чернь», «Поэт», «Эхо», «Поэт, не дорожи любовию народной…» и который заслуживает подробного рассмотрения.
Вероятно, еще многие помнят усилия «Московского вестника» ознакомить публику прямо с немецкими теориями изящного помимо толкований и изменений французских критиков. Такие же попытки альманаха «Мнемозина» остались безуспешны, особенно за туманность языка, еще необразованного тогда для логических тонкостей и отвлечений. «Московский вестник» открыл другой путь: он обратил преимущественно внимание на осязательную сторону немецких теорий, их страстную любовь к предмету и романтическое одушевление. Без всякой последовательности и строгой системы журнал прилагал отрывки из Жан-Поля, Тика и Шеллинга. Правда, что отрывочность эту тогда же ставили в упрек журналу даже его приверженцы, как мы имели случай видеть в неизданной переписке Туманского с Пушкиным.
Статьи сотрудников перерабатывали только положения немецких писателей, облекая их в ту восторженную и отчасти сентиментальную форму, которая составила цвет журнала и тайну его влияния на молодых людей. Лирический язык, каким писались эти вообще короткие статьи, был, может статься, тогда способнее, чем всякое другое изложение, держать в напряжении пробуждающееся эстетическое чувство и порождать стремление к изящному, в чем и состояла цель журнала. Пушкин принял деятельное участие в судьбе его, посвятил ему много своих произведений и как человек, понимавший практическую сторону всякого дела, рассчитывал на 10 тысяч дохода за свое сотрудничество[301 - Такую сумму должна была ежегодно выплачивать Пушкину за его участие редакция «Московского вестника». Эти расчеты далеко не оправдались.]. Коммерческие его соображения удались только вполовину, но важнее всего этого то обстоятельство, что из круга молодых людей, содействовавших успеху журнала, вынес он свой полный, установившийся взгляд на художника и искусство[302 - Анненков преувеличивает влияние «любомудров» на формирование пушкинских взглядов; их философская и эстетическая позиция и позиция Пушкина далеко не совпадали.]. Тем быстрее усвоил он себе их теорию творчества, что она только развила и дополнила собственное его понимание предмета, уже высказанное им в известном «Разговоре книгопродавца с поэтом», появившемся за три года до основания журнала.
Сущность теории состояла в весьма строгом взгляде как на призвание художника, так и на задачу самого искусства. Последнее определяла она проявлением бесконечного в ограниченных или конечных формах и создавала ему таким образом цель высокую, независимую от требований современности. Идеальное понимание искусства само собой приводило к мысли об исключительном и важном значении художника, посвятившего ему жизнь свою. Как служитель изящного, он не принадлежал толпе, не разделял ее стремлений и не признавал ее нужд. Под действием этой теории, имевшей на Пушкина сильное влияние, написал он свое стихотворение «Чернь», названное им в рукописи «Ямб». Заключительные стихи его превосходно выражают сущность всего воззрения:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв[303 - Стихотворение «Поэт и толпа», названное при первой публикации в MB «Чернь», было написано в 1828 году.].
В дальнейшем своем развитии учение ставило художника и единственным верным ценителем своего произведения. По сущности теории, художник не нуждался в сочувствии окружающих, не имел надобности отдавать отчета в своих сношениях с идеалом и один знал первую причину и настоящую цель своих произведений. В превосходном стихотворении «Поэт, не дорожи любовию народной…» Пушкин отвергал всякое постороннее вмешательство этими гордыми словами, обращенными к художнику:
…..Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самой тебе. Ты сам – свой высший суд[304 - Сонет «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной…») написан 7 июля 1830 года.]…
Условия самого таланта и внешние обстоятельства еще более укрепили в поэте нашем этот взгляд на художника и, по отражению идеи, на собственное призвание. Талант Пушкина был тайною для него самого, которую он не мог объяснить иначе, как сравнением с явлениями физической природы, действующими по законам, им неведомым. Вспомним его описание поэта в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный и проч.,
вспомним еще его сравнение поэта с эхом в известной пьесе «Эхо»:
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, грешит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
«Таков и ты, поэт!» – восклицает Пушкин в конце стихотворения[305 - Стихотворение написано в 1831 году.]. Действительно, его поэтическая способность должна была ему самому казаться неизъяснимым предопределением, потому что если обширное чтение, образованность, размышление давали ей материалы и пищу, то породить ее были не в силах. Он так хорошо чувствовал это, что, по известной склонности своей к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то кабалистическими знаками и бережно хранимого им. Перстень этот находится теперь во владении В.И. Даля[306 - См.: Даль В.И. Воспоминания о Пушкине. – В кн.: П. в восп., т. 2, с. 225).]. Не менее высоко должен он был ценить и искусство вообще в приложении к самому себе. Кроме славы и обширных средств существования, какие были ему всегда потребны, только в искусстве находил он благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собой и сознавал себя в высоком нравственном значении. Так теория искусства сходилась здесь с самой жизнью. Впоследствии холодность публики и невнимание ее к лучшим, зрелым его произведениям еще глубже погрузили его в художническое уединение, которое он воспевал. Действительно, Пушкин сделался и творцом, независимым от вкуса и расположения публики, и единственным верным судьей своих произведений. Обстоятельства много способствовали к оправданию и укоренению в нем отвлеченной теории, которая получила впоследствии еще сильнейшее развитие. К концу своего поприща Пушкин пришел к мысли и убеждению, что самый труд, как предмет, назначенный для общего достояния всех, ничего не значит в глазах поэта, а важны для последнего только высокие наслаждения, доставленные течением труда. Мы находим уже эту мысль в антологическом стихотворении «Миг вожделенный настал…», но ярче выразилась она в одном неизданном стихотворении, которое прилагаем здесь в точности:
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни удивленья, ни напева,
Ни нужд, ни смеха, ни труда.
Глупец кричит: «Куда, куда?