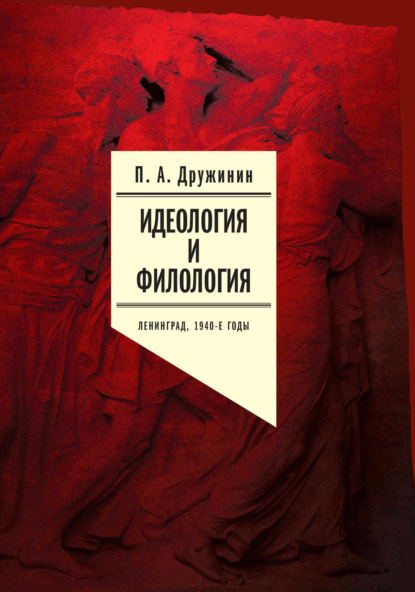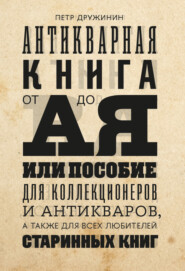По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«…Мы знаем, что искусство связано с землей, с ее солью, с ее запахом, что вне национальной культуры нет искусства. Космополитизм – это мир, в котором вещи теряют цвет и форму, а слова лишаются их значимости»[57 - Цит. по: Жуков Ю. Н. Указ. соч. С. 191–194.].
Да и сам Фадеев, выступая с весны 1943 г. в подобном ключе, не жалел сил для пропаганды советского патриотизма. Сделав в конце августа на созванном ГлавПУРом РККА совещании редакторов фронтовых и армейских газет доклад «О советском патриотизме и национальной гордости народов СССР», он затем выступил с ним по радио, после чего в последние месяцы 1943 г. переработанный автором текст доклада был напечатан сразу в нескольких журналах («Под знаменем марксизма», «Знамя», «Краснофлотец» и др.) Столь массированное внедрение идей, доступно отраженных в названии доклада, в народные массы велось, несомненно, с ведома ЦК ВКП(б). Кроме непосредственной пропаганды, Фадеев указал и на явления, которым нет места в условиях нового идеологического курса:
«Конечно, в нашей стране существует еще незначительное охвостье людей, враждебных нашему строю. Кроме того, враг засылает к нам своих агентов, которые могут пытаться путем разжигания националистических предрассудков и пережитков среди отсталых людей – вносить национальную рознь в братское содружество народов СССР или подрывать в наших народах чувство национальной чести и гордости раболепным преклонением перед всем, что носит заграничную марку, или ханжескими проповедями беспочвенного “космополитизма”, исходящего из того, что все, дескать, “люди на свете”, а нация, родина – это, мол, “отжившее понятие”.
Опыт войны наглядно показал, что в нашей стране нет почвы для того, чтобы эти вражеские попытки могли увенчаться сколько-нибудь серьезным успехом. Но эти попытки, рассчитанные на людей отсталых, могут причинять нам известный вред. Надо уметь вовремя разоблачать эти попытки и давать им жестокий отпор.
У нас в прошлом были такие люди, которые думали, что перенесение на нашу почву из стран Западной Европы всевозможных упадочных, безыдейных, формалистических школок в области искусства является чем-то «левым». В результате таких влияний мы получили, например, в области архитектуры некоторое количество серых, некрасивых зданий – коробок, в которых при всей их “левизне”, а вернее благодаря ей, совершенно невозможно жить. Чуждые влияния в свое время сказывались и в живописи, и в литературе, и в театре, и в музыке, и в кино.
Отечественная война окончательно разоблачила и отбросила эти некритически перенесенные с Запада, застарелые и изрядно вылинявшие пережитки декаданса в искусстве, всевозможные лжетеории – “искусства для искусства“, “формализма” – на основе которых за всю историю человечества, как известно, не было создано и не могло быть создано ничего подлинно великого.
Отечественная война разоблачила их окончательно потому, что они, эти пережитки и лжетеории, совершенно лишены народной, национальной почвы; они порождены претенциозной, но по существу своему глубоко антихудожественной, импотентной мыслью»[58 - Фадеев А. За тридцать лет: Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., 1957. С. 285–286.].
Итак, представители так называемой творческой интеллигенции делались проводниками идей высшего руководства страны в борьбе с любыми порождениями той самой «глубоко антихудожественной, импотентной мысли», которая, несмотря на такое определение, в действительности была достаточно плодовитой.
Кроме того, уже с середины 1943 г. проводились различные совещания писателей, драматургов, кинематографистов, художников, где провозглашались всё те же идеи «русской национальной гордости», «великого русского патриотизма» и т. п. О таких совещаниях, а еще более об их идеологической составляющей тот же А. А. Фадеев писал в начале августа 1943 г. Вс. Вишневскому:
«У нас закончилось на днях совещание, специально посвященное работе писателей на фронте. ‹…› Один из наиболее острых вопросов не только на нашем совещании, а и на пленуме Оргкомитета художников и на совещании композиторов по вопросам песни, был вопрос о сущности советского патриотизма, взятый в национальном разрезе. Есть люди, которые не очень-то хорошо понимают, почему мы так заостряем теперь вопрос о национальной гордости русского народа. Этому непониманию, к сожалению, способствуют некоторые деятели искусства, совершенно не понимающие глубоко советской сущности нашей национальной гордости, не понимающие того, что мы гордимся как раз тем, что история выдвинула нас в качестве передовой силы в освободительной борьбе человечества, и скатывающиеся к квасному “расейскому” патриотизму. Однако дело, конечно, не в них, поскольку корни шовинизма в русском народе да и в других народах СССР уже подрублены и им не на чем распуститься. А дело в том, что среди известных кругов интеллигенции еще немало людей, понимающих интернационализм в пошло-космополитическом духе и не изживших рабского преклонения перед всем заграничным. Именно из этой среды в первый период войны раздавались голоса о будто бы существующем преимуществе немцев перед нами в области организации, в области военной науки и т. п. Мне кажется, что Эренбург, при всей его несомненной ненависти к немцам, не вполне, однако, понимает всего значения национального вопроса в области культуры и искусства и, сам того не замечая, противопоставляет всечеловеческое значение подлинной культуры ее национальным корням»[59 - Фадеев А. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1971. Т. 7. С. 140. Хотя составители датируют это письмо мартом – маем 1943 г., это, конечно, ошибка – совещание по песенной тематике состоялось в июле 1943 г.; кроме того, в начале письма Фадеев пишет о большом интересе А. Я. Таирова к новой пьесе Вс. Вишневского, разумея «У стен Ленинграда». 13 августа 1943 г. Вишневский записал в дневнике: «Сегодня дал Оттену письма для передачи в ЦК, Комитету искусств ‹…› Фадееву, журналу «Знамя» и пьесу для Таирова. Ну, «У стен Ленинграда» двинулось в Москву…» (Вишневский Вс. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1958. Т. IV. С. 317). А 18 августа отметил: «Получил телеграмму от Таирова – благодарит за пьесу» (Там же. С. 328). То есть письмо Фадеева датируется первыми числами августа 1943 г.].
Результатом такой масштабной «артподготовки» явилось то, что к началу 1944 г., «всего за несколько месяцев не только взросло, но и окрепло, пышно зацвело древо исконного, насчитывающего не одно столетие русского государственного национализма или национальной государственности. Вновь стала реальностью, хотя пока лишь внешне, в отдельных чертах, старая официальная идеология великодержавности, прежде отождествлявшаяся с самодержавием, решительно осуждавшаяся как противоречащая марксизму-ленинизму, с которой боролись более двух десятилетий…»[60 - Жуков Ю. Н. Указ. соч. С. 189–190.].
Кроме общего воздействия, требовались и точечные удары по наиболее важным идеологическим областям. Особенное внимание Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), читай высшее руководство страны, уделяло литературе и кинематографии.
Для более умелого руководства кинематографией в структуре Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 17 февраля 1943 г. Секретариатом ЦК ВКП(б) был учрежден отдел кинематографии[61 - Там же. С. 195.]. С этого времени процесс не только утверждения, но и всей подготовки киносценариев ведомства И. Г. Большакова перешел под строгий контроль ЦК.
Что касается идеологических установок, в качестве каковых обычно воспринимались передовицы «Правды», постановления ЦК или выступления высших руководителей государства, то наблюдалось странное молчание.
«Даже летом 1943 г., когда изменения идеологического курса приобрели уже достаточно отчетливые очертания, Щербаков и тем более Александров не сочли возможным познакомить с ними деятелей кино. На совещании, созванном 31 июля на Старой площади, Щербаков сообщил писателям, драматургам, режиссерам не конкретные задания, не установки партии, а другое – сценаристы, мол, обязаны сами осознать, что же ждут от них. Он дал понять, что требуются не слепые исполнители чужой воли, а сознательные сторонники, люди, самостоятельно пришедшие к необходимым взглядам, сами занявшие определенную твердую позицию. И предложил пока единственную форму помощи – “совет”»[62 - Там же. С. 197.].
«Как может развиваться искусство без критики? – добавил Щербаков. – Это невозможно. Это значит поставить искусство в тепличные условия, под стеклянный колпак. Критика должна быть, во-первых, вокруг Союза советских писателей и вокруг Комитета по делам кинематографии. Они прежде всего должны организовать эту критику, критику товарищескую. Причем следует так разнести, чтобы камня на камне не осталось»[63 - Там же. С. 198.].
Деятельность Комитета по делам кинематографии при СНК и его руководитель И. Г. Большаков фактически полностью были подчинены Управлению пропаганды и агитации ЦК, но личностная критика коснулась тогда по большей части одного А. П. Довженко. Сам режиссер в частной беседе по поводу критики его киноповести «Украина в огне» недоумевал: «Но почему у нас делается так, что сначала все говорят – “хорошо, прекрасно”, а потом вдруг оказывается чуть ли не клевета на советскую власть»[64 - Информация наркома государственной безопасности СССР В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову о политических настроениях и высказываниях писателей. [31 октября 1944] // Власть и художественная интеллигенция. С. 525.].
Удивительно, что руководство страны в лице «зама по идеологии» – начальника ГлавПУРа РККА А. С. Щербакова не озвучило новых идеологических настроений в традиционном докладе в годовщину смерти Ленина 21 января 1944 г.; о патриотизме Щербаков даже не обмолвился[65 - Щербаков А. С. Под знаменем Ленина – Сталина советский народ идет к победе: Доклад 21 января 1944 года на торжественном заседании, посвященном ХХ годовщине со дня смерти В. И. Ленина. [М.; Л.], 1944.]. Тем не менее воздействие ЦК на идеологически важные сферы деятельности, оставшиеся без серьезного попечения в первые годы войны, продолжало усиливаться.
Но литературу, совершенно иную по масштабам и централизации, нежели кино, быстро обуздать не представлялось возможным. При этом по силе воздействия на массы литература была уникальным и давно испытанным, привычным для Сталина инструментом, который было необходимо настроить на верный лад. В первую очередь досталось «толстым» литературным журналам, на страницы которых, как было тогда установлено Центральным Комитетом, проникают «антихудожественные, политически вредные и лживо изображающие советский народ» произведения. Именно поэтому уже в декабре 1943 г. Секретариат ЦК ВКП(б) принимает два постановления.
2 декабря 1943 г. – «О контроле над литературно-художественными журналами», в котором осуждается повесть Зощенко «Перед восходом солнца» и стихи Сельвинского. На Управление агитации и пропаганды возлагается задача улучшения контроля над литературными журналами, причем ответственность за конкретные журналы распределена между руководителями Управления («Новый мир» – главе Управления Г. Ф. Александрову, «Знамя» и «Октябрь» – его заместителям А. А. Пузину и П. Н. Федосееву). А чтобы еще более повысить чувство личной ответственности, в постановлении подчеркивалось, «что наблюдающие за этими журналами несут перед ЦК ВКП(б) всю полноту ответственности за содержание журналов»[66 - Власть и художественная интеллигенция. С. 507.].
Естественно, вслед за возросшей ответственностью контролирующего аппарата были предъявлены новые требования к редакциям, чему посвящено второе постановление (от 3 декабря 1943 г.) «О повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов», где редакторам выносится на вид их бездеятельность: «В результате безответственного отношения секретарей журналов к публикации художественных произведений, в печать проникают серые, недоработанные, а иногда и вредные произведения»[67 - Там же. С. 508.]. В этом постановлении «Перед восходом солнца», напечатанная в журнале «Октябрь», характеризуется уже как «антихудожественная, пошлая повесть Зощенко», а стихотворение Сельвинского «Кого баюкала Россия» оценено как «политически вредное»[68 - Там же.].
Зощенко, узнав о постановлении, 8 января написал заявление в ЦК ВКП(б), где признал все свои ошибки и обещал загладить вину[69 - Там же. С. 509–510.], чем в данном случае спас себя от последствий. Сельвинский же, не среагировавший в нужной форме, особенно учитывая наличие у него партбилета, удостоился персонального постановления Секретариата ЦК ВКП(б) «О стихах И. Сельвинского «Кого баюкала Россия»» от 10 февраля 1944 г., в котором отмечалось, что автор этим стихотворением «клевещет на русский народ»; вследствие чего было решено «освободить т. Сельвинского от работы военного корреспондента до тех пор, пока т. Сельвинский не докажет своим творчеством способность правильно понимать жизнь и борьбу советского народа»[70 - Там же. С. 510.].
Оговоримся, что указанные постановления ЦК открыто не публиковались, не обсуждались в печати, а лишь были разосланы упоминавшимся в них авторам, редакциям и руководству ССП и имели, по сути, характер циркулярного письма. Удивительно, что о них особенно не вспоминали даже в 1946 г., когда уже одно их упоминание лишний раз доказывало бы правоту власти. «Причина того, что два столь важных партийных постановления оказались на деле засекреченными, крылась в том, что они так и не могли решить до конца те задачи, ради которых и замышлялись»[71 - Жуков Ю. Н. Указ. соч. С. 202.].
Конечно, ведавший в 1946 г. вопросами идеологии А. А. Жданов даже в блокированном Ленинграде, будучи секретарем ЦК, получал для ознакомления и согласования документы Секретариата ЦК, помнил о постановлениях 1943 г., однако о них с трибуны не упоминал. Это обстоятельство свидетельствует о внутреннем, секретном (как и все материалы Секретариата ЦК) характере этих документов.
В литературных же кругах о настроениях Центрального Комитета знали – как по последствиям, так и по разъяснительным собраниям. Например, вполне осведомленный литературовед Л. И. Тимофеев записал в дневнике 6 января 1944 г.:
«В Союзе писателей – события. ЦК недоволен литературой: в ней еще не до конца поняли, что литература не только служение, но и служба. Асееву сказали, что в его стихах – голос врага (он писал об эвакуации – “Россия мучится, мочится, мечется” и т. п., говорят, впрочем, что там были и очень хорошие стихи). К журналам прикреплены “шефы” – к “Знамени” – Пузин, к “Октябрю” – Поспелов, к “Новому миру” – Александров. Фадеев выступил в Союзе с речью, в которой громил писателей “тунеядцев” и “молчальников” (в том числе Федина, Пастернака и др.)»[72 - Тимофеев Л. Дневник военных лет / Публ. О. И. Тимофеевой // Знамя. М., 2004. № 7. Июль. С. 153.].
Но идеологический маховик раскручивался – руководство страны не было готово обходиться локальными мерами. Сталину было очевидно, что требуется коренное «перевооружение» интеллигенции и поднятие массово-политической работы на совершенно иной уровень.
«О необходимости усиления этой работы свидетельствует также то, что на идеологическом фронте вскрыт ряд ошибок, извращений и шатаний. Серьезные ошибки вскрыты в работах отдельных работников литературного фронта, которые, оторвавшись от жизни, в своих трудах допустили грубейшие исторические и политические ошибки», – констатировал тогда глава Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР С. В. Кафтанов[73 - Кафтанов С. В. Задачи высшей школы в 1944/45 учебном году: Обработанная стенограмма доклада автора на VII Пленуме ЦК Союза работников высшей школы и научных учреждений (август 1944 г.). М., 1944. С. 18.].
Неожиданное наступление Советского государства на «литературном фронте» самим литераторам казалось пугающим. Происходящее довольно точно резюмировал тогда К. И. Чуковский:
«…В литературе хотят навести порядок. В ЦК прямо признаются, что им ясно положение во всех областях жизни, кроме литературы. Нас, писателей, хотят заставить нести службу, как и всех остальных людей… В журналах и издательствах царят пустота и мрак. Ни одна рукопись не может быть принята самостоятельно. Все идет на утверждение в ЦК, и поэтому редакции превратились в мертвые, чисто регистрационные инстанции. Происходит страннейшая централизация литературы, ее приспособление к задачам советской империи»[74 - Информация наркома государственной безопасности СССР В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову… // Власть и художественная интеллигенция. С. 523.].
Окончательным свидетельством нового внутреннего курса СССР стало и исполнение в ночь на 1 января 1944 г. по Всесоюзному радио нового гимна СССР (утвержден 14 декабря на заседании Политбюро ЦК), который стал официально использоваться с 15 марта 1944 г. Ведь еще 28 октября 1943 г. на заседании Политбюро было отмечено, что «Интернационал» «по своему содержанию не отражает коренных изменений, происшедших в нашей стране»[75 - Жуков Ю. Н. Указ. соч. С. 189.]. Зато в новом гимне линия высшего руководства была озвучена уже в двух первых строфах:
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь[76 - Сохранился рассказ выдающегося пианиста Э. Г. Гилельса, с которым Сталин беседовал на тему нового гимна: «“Тэбе нравится гимн?” – спросил Сталин Гилельса (сильно проступал акцент) и испытующе посмотрел на него. “Нравится, Иосиф Виссарионович”. Сталин выждал небольшую паузу: “А мне – нэт!”» (Гордон Г. Б. Эмиль Гилельс: за гранью мифа. М., 2007. С. 157).].
Философия – важнейшая отрасль идеологии
Вслед за литературой взор руководства страны устремился на общественные науки, первой и основополагающей из которых традиционно была философия. Именно налаживанию этой отрасли было посвящено постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 мая 1944 г. «О недостатках в научной работе в области философии». Это постановление – одно из двух решений Политбюро ЦК по Академии наук СССР, принятых за все военные годы (другое, касающееся организации АН Армянской ССР, было принято 29 октября 1943 г.).
Основные постулаты советской философии к тому времени уже были определены в работе Сталина «О диалектическом и историческом материализме», впервые опубликованной 12 сентября 1938 г. в «Правде»; в том же году работа Сталина вошла в канонический «Краткий курс истории ВКП(б)», и многократно издавалась отдельно. Таким образом, поскольку в актуальных проблемах философии все было предельно ясно, большинство серьезных исследований перетекло в плоскость истории философии. Впоследствии, в 1947 г. в дискуссии по книге Г. Ф. Александрова, директор Института философии АН СССР профессор Г. С. Васецкий констатировал, что «за последние восемь-девять лет (т. е. после выхода «Краткого курса». – П. Д.) почти все докторские диссертации защищались на историко-философские темы и ни одной докторской диссертации не было на актуальную тему исторического материализма в связи с социалистическим строительством»[77 - Дискуссия по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», 16–25 июня 1947 г. С. 273.]. Действительно, первой докторской диссертацией, защищенной в Институте философии (и вообще второй докторской диссертации по философии в СССР), была работа В. Ф. Асмуса «Эстетика классической Греции».
Конечно же, уход от актуальных проблем не мог стать панацеей от конфликта с властью ни в одной из областей науки, и рано или поздно идеологическая машина добиралась до всех. В этот раз баталии разразились вокруг многотомной «Истории философии», над которой с 1939 г. работал коллектив Института философии АН СССР. Первый том («философия античного и феодального общества») вышел весной 1941 г., в том же году появился второй («философия XV–XVIII вв.»), и в 1943 г. – третий («философия первой половины XIX в.»). Редакторами издания были Г. Ф. Александров, Б. Э. Быховский, М. Б. Митин и П. Ф. Юдин. В том же году авторский коллектив из восьми человек (кроме перечисленных в это число вошли В. Ф. Асмус, М. М. Григорьян, М. А. Дынник и О. В. Трахтенберг) был выдвинут на соискание Сталинской премии. В комиссию по Сталинским премиям Г. Ф. Александров представил три вышедших тома, а также один в рукописи – посвященный русской философии (с конца XV по XIX в. включительно). Коллективу в 1943 г. была присуждена Сталинская премия I степени, но, что вполне логично, только за вышедшие тома.
Издание «Истории философии» было бы продолжено, и авторский коллектив, скорее всего, получил бы еще одну Сталинскую премию, если бы в дело не вмешался профессор МГУ имени М. В. Ломоносова З. Я. Белецкий[78 - Белецкий Зиновий Яковлевич (1901–1969) – член РКП(б) с 1919 г., в 1925 г. окончил 1-й МГУ (медицинский факультет) (см.: Научные кадры ВКП(б): Персональный справочник о составе научных работников членов и кандидатов ВКП(б). [Издано с грифом «Секретно».] М., 1930. С. 30; именно по причине медицинского образования он поименован в разделе «физиология»). Окончив в 1929 г. ИКП, где он переквалифицировался в философа, Белецкий был отправлен в Ростовский университет (в 1929–1932 гг. заведовал кафедрой философии, в 1932–1933 гг. был заместителем директора), затем назначен директором в Ростовский институт марксизма-ленинизма (1933–1934). В 1934 г. переведен в Москву парторгом Института философии АН СССР; в 1943–1953 г. руководил кафедрой диалектического и исторического материализма философского факультета МГУ, затем был снят с занимаемой должности, а в 1955 г. уволен; стал преподавать в Московском инженерно-экономическом институте (в 1975 г. переименован в Институт управления). Им была инспирирована философская дискуссия 1947 г.; выступал с докладом на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Впрочем, он сам был проработан в МГУ в 1949 г. во время борьбы с космополитизмом (см.: Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации, 1938–1953 / Сост. Г. В. Костырченко. М., 2005. С. 324).Философ Г. П. Щедровицкий (1929–1994) дал в 1981 г. ему следующую характеристику: «Заведующий кафедрой диалектического материализма Зиновий Яковлевич Белецкий – горбун, подлинный Квазимодо, как будто только спустившийся с башен Нотрдама. Горбун, который, когда он стоял на кафедре, почти не был виден за ней, и он должен был, чтоб мы его видели, так сказать, подтягиваться, но все равно он едва выступал из-за кафедры. Это был очень резкий мужик, который почти ничего не писал – в этом состояла его жизненная стратегия, – он только читал лекции и делал доклады, причем запрещал как-либо фиксировать, подробно записывать их. У него был лозунг: “Понимать надо живую душу марксизма”. Но делалось это все просто для спасения. Это был человек, безусловно, очень сильный. У него было довольно много учеников, и до сих пор они существуют как такая компактная группа» (Щедровицкий Г. П. Я всегда был идеалистом… М., 2001. С. 251–252). Метафора мемуариста кажется нам удивительно точной.Белецкий был автором многих объемных доносов «на высочайшее имя», в том числе «целого трактата», обличающего Ю. А. Жданова, который рассматривался комиссией М. А. Суслова (Жданов Ю. А. Указ. соч. С. 304).]. С 1934 г. он был парторгом Института философии, откуда был уволен в 1943 г. и перешел заведовать кафедрой на философский факультет МГУ[79 - Подробности о работе Белецкого в МГУ: Батыгин Г. С., Девятко И. Ф. Дело профессора З. Я. Белецкого // Из истории отечественной философии, ХХ век. М., 1998. Кн. 1. С. 218–242.]. По-видимому, к такому шагу его подтолкнули личные причины: Белецкий, получив в 1929 г. звание профессора, не имел ученой степени, а когда после постановления СНК СССР от 13 января 1934 г. «Об ученых степенях и званиях» в ней возникла необходимость, то он, во-первых, не получил таковой «автоматически» распоряжением Президиума АН СССР (как большинство профессоров), а во-вторых, когда он подготовил в Институте философии диссертацию о развитии психики, то ее, несмотря на положительные отзывы, не допустили к защите соредакторы «Истории философии» Быховский и Юдин[80 - Батыгин Г. С., Девятко И. Ф. Советское философское сообщество в сороковые годы: Почему был запрещен третий том «Истории философии»? // Вестник РАН. М., 1993. Т. 63. № 7. С. 634.]. И тогда, в конце зимы 1943 г., хорошо сведущий в вопросах исторического и диалектического материализма Белецкий написал развернутое письмо Сталину, в котором обращал внимание вождя на серьезные идеологические и теоретические ошибки, допущенные в третьем томе издания[81 - Само письмо до сих пор не выявлено, неизвестна и дата его написания. Судя по тому, что 25 февраля состоялось первое заседание совещания философов, то письмо было написано не позднее начала февраля.].
Апелляция Белецкого к последней инстанции была смелым шагом, поскольку четыре соредактора критикуемого им издания были не просто цветом советской философской мысли. Г. Ф. Александров был кандидатом в члены ЦК ВКП(б) и руководил Управлением пропаганды и агитации ЦК (вскоре он станет членом Оргбюро ЦК и академиком); П. Ф. Юдин был директором Института философии и членом-корреспондентом АН СССР (членом ЦК и академиком он станет позднее); М. Б. Митин был членом ЦК, академиком АН СССР и директором ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). Единственный член редколлегии, не входивший в состав советской элиты, был Б. Э. Быховский, «которого в известном смысле можно считать соавтором едва ли не всех глав этих томов и архитектором издания в целом»[82 - Каменский З. А. Из истории изучения русской философской мысли в 40-х годах ХХ века: Воспоминания. Материалы личного архива // Отечественная философия: Опыт, проблемы, ориентиры исследования. М., 1992. Вып. Х. С. 210.]. «Только Б. Э. Быховский по-настоящему проводил редакционную работу. Остальные члены редколлегии были заняты своими партийно-государственными делами и в лучшем случае имели дело с корректурами издания»[83 - Каменский З. А. Философская дискуссия 1947 года (преимущественно по личным воспоминаниям) // Там же. М., 1991. Вып. VI. С. 11.].
Основной ошибкой тома было объявлено то, что в издании «смазано противоречие между прогрессивной стороной философии Гегеля – его диалектическим методом – и консервативной стороной – его догматической системой»[84 - О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX вв. // Большевик. М., 1944. № 7/8. С. 14.].
Почему же в 1943 г. руководство страны вдруг проявило столь серьезное внимание к вопросам немецкой классической философии? Несомненно, в то время перед страной стояло множество более насущных задач. Подобный вопрос уже волновал других исследователей: «Зная только текст постановления и сопоставляя его с концепцией третьего тома, невозможно понять, на кой черт партия заинтересовалась Гегелем в тяжелые годы войны»[85 - Батыгин Г. С., Девятко И. Ф. Советское философское сообщество в сороковые годы. С. 635.].
Но генезис постановлений Центрального Комитета далеко не всегда объяснялся здравым смыслом или насущной необходимостью. Здесь свою главную роль играли прежде всего настроение и мироощущение руководителя страны, которым сопутствовала непрекращаемая фракционная борьба в аппарате ЦК.
Почему претензии Белецкого были предъявлены именно к третьему тому? Во-первых, автор письма обладал действительно глубокими познаниями в области классической немецкой философии, а во-вторых, существованием недвусмысленной связи между немецкой философией и идущей войной, что в умелых руках делало обсуждение этой темы взрывоопасным.
В области немецкой философии неоспоримым авторитетом тогда был Б. Э. Быховский, который являлся еще и автором книги «Метод и система Гегеля» (М., 1941). Так вот, Э. Я. Кольман, еще один знаменитый советский философ, математик и сотрудник Института философии, убежденно заявил: «Я считаю, что Белецкий знает Гегеля лучше, чем Быховский»[86 - Там же. С. 634.]. То есть речь идет о критике не издания в целом, а конкретной темы – немецкой философии. Именно этой темой автор письма к Сталину владел настолько, чтобы быть уверенным в своей правоте и показать замеченные им идеологические ошибки в наиболее невыгодном для редакторов свете. И Белецкий обвинил авторов в некритическом подходе к сочинениям Гегеля и других немецких философов, поскольку именно их воззрения были взяты на вооружение идеологией фашизма.
Ознакомившись с письмом Белецкого, Сталин внимательно изучил само издание и счел доводы Белецкого основательными. Дальнейшие действия были давно отработаны: Секретариат ЦК начал «разбираться» с таким положением дел.
Из Секретариата ЦК (с ведома Г. М. Маленкова и А. С. Щербакова) распоряжение Сталина поступило к начальнику Управления пропаганды и агитации Г. Ф. Александрову, который, таким образом, оказался в достаточно щекотливом положении. Однако, владея умением аппаратной игры намного более остальных своих обязанностей, он предпринял спасший его шаг: пользуясь своим положением, запросил письменный отзыв на письмо Белецкого от других двух редакторов – М. Б. Митина и П. Ф. Юдина. В ответ в ЦК на имя Александрова была направлена записка, в которой Белецкий обвинялся во всех возможных методологических ошибках, но, главное, Митин и Юдин «выступили против антинемецкой истерии, поразившей советскую пропаганду, и выразили опасение по поводу усиливающейся в ней из месяца в месяц тенденции возвеличить все русское»[87 - Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина… С. 255.].
Таким ответом не прочувствовавшие новой идеологии Митин и Юдин подставляли себя под удар и тем самым непреднамеренно отводили огонь критики от Александрова. Дальнейшая механика была такова: снабженная соответствующим комментарием Александрова записка Митина и Юдина перешла к секретарю ЦК Маленкову, который ознакомил с ней Сталина[88 - Там же.]. Естественной реакцией Сталина было пожелание скорее навести порядок на этом участке идеологии.
Для этого в феврале – марте 1944 г. в ЦК ВКП(б) было созвано совещание по вопросам немецкой классической философии. Оно проводилось секретарем ЦК Г. М. Маленковым и состояло из трех заседаний – 25 февраля, 10 и 11 марта. На совещании присутствовало около 20 человек: секретарь ЦК А. С. Щербаков, авторский коллектив «Истории философии», ответственные работники идеологического аппарата ЦК, председатель ВКВШ С. В. Кафтанов… Сталин на совещании не присутствовал.
Митин и Юдин с самого первого дня совещания предстали в качестве главных виновных. Притом они поначалу продолжали настаивать на умеренности в проявлении ура-патриотизма, особенно в части «фрицев». Без сомнения, они апеллировали к высказыванию Сталина, известному по праздничному приказу наркома обороны от 23 февраля 1942 г.:
«Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза»[89 - [Сталин И. В.] Приказ народного комиссара обороны 23-го февраля 1942 года: [Ко дню ХХIV годовщины РККА] // Правда. М., 1942. № 54. 23 февраля. С. 1.].