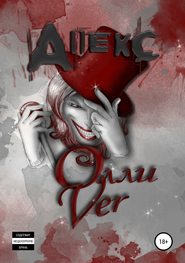По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белые лилии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Псих бросает быстрый взгляд на бывшего мэра – тот лежит на полу – но тут же отводит глаза от, раскинутых в стороны, рук и ног, поднимает голову, и взгляд из-под тяжелых надбровных дуг ловит каждое движение мелкого ублюдка. А мелкий ублюдок, немногим ниже огромного дядьки возмущен и расстроен:
– Он же должен был знать… Как же романтика фатума? – Белка делает легкий взмах рукой в сторону Олега, и ствол Glock матово переливается в тусклом предрассветном мареве. Взгляд Психа неотрывно следит за дулом глушителя, матовым корпусом пистолета, и руки сумасшедшего, зажатые металлическими браслетами наручников, непроизвольно сжимают кулаки. Грудная клетка Психа, словно огромные кузничные меха, быстро и шумно качает воздух, так что в кромешной тишине и сером предрассветном воздухе есть лишь звук дыхания и запах пороха. Выстрел прозвучал совсем недавно, но, кажется, минули столетия между незатейливым диалогом бывшего мэра с Белкой, и бывшего мэра, лежащего на полу с дырой во лбу. Разговор был очень коротким:
– Если согласишься встретиться со своим сыном и честно признаться ему, что забил на его лечение – будешь жить.
– Согласен! – не раздумывая, ответил Олег.
А потом прозвучал выстрел. Бывший мэр рухнул на пол, а Белка пробубнил:
– Жалкая мразь… – а затем поднес глушитель к носу и шумно втянул носом. – Мне нравится запах, – сказал он, обращаясь к Психу, – а тебе?
А Психу очень хочется, чтобы палец парня на спусковом крючке дернулся так сильно, чтобы и предохранительный крючок тоже сработал. Псих мечтает, чтобы Белке снесло полчерепа. Но Белка недовольно мурлычет:
– Эта мразь даже думать не стала.
– Знаешь, – глухо басит Псих, – исповедоваться гораздо сложнее, чем тебе кажется. Может, он и не смог бы…
– Смог бы, – отрезает Белка.
Теперь бывший мэр, и вообще, во всех отношениях совсем бывший, уже ничего не сможет – бывший-мэр-мразь лежит на полу, и из его головы вытекает гранатово-бордовая лужа.
Белка подходит к Олегу, останавливается в шаге от тела и смотрит на него, а затем спрашивает, обращаясь к Психу:
– Как думаешь, это похоже на инсульт?
Глава 8. Ненавидь меня – говори со мной
«Совсем как неживая», – подумал Максим.
Он смотрел на женщину и думал о том, как бы он назвал её, если бы осмелился открыть рот? Как звучит её суть? Какая она на звук? Максим разглядывает складки длинной, широкой юбки, которые полностью прячут её ноги, и только колени остро выпирают под тканью одежды, словно остов, сожженного дотла, дома. Мама? Нет. Она права – мамой она никогда не была. Он смотрит на тонкое, тщедушное тело, на ткань кофты, буквально ввалившуюся внутрь её тела – даже отсюда, в нескольких шагах от неё, кажется, что там, под одеждой, остались только кости. Может быть, по имени? Но он не может вспомнить её имени, потому как его присвоил себе отец: он единственный, кто произносит его, но делает он это так тихо, так интимно, что никому, кроме них двоих его не слышно. Он смотрит на бледно-серые кисти рук и непроизвольно сравнивает их с лапами мертвых птиц. Значит она просто… женщина? А так бывает? Максим разглядывает хрупкое существо в инвалидном кресле и впервые в жизни ему в голову приходит грубая, мерзкая, жестокая мысль – теперь она и женщиной быть не захотела. По крайней мере, в основополагающем, для женской физиологии, смысле. Максим слышал разговор отца и дяди Коли: врачи сказали, что пришлось вырезать абсолютно все – матку, оба яичника, бо?льшую часть влагалища. Она разодрала в клочья все, до чего смогла добраться. Они удалили это, не задумываясь, ведь без репродуктивной системы женщина может жить, а вот без кишечника… Полметра тонкого, и небольшая часть толстого кишечника. В какой-то момент они уже не надеялись выцарапать её с того света, ведь она должна была умереть от потери крови еще до приезда «скорой». Максим смотрит на человека в инвалидном кресле и чувствует, как желудок превращается в ледяной ком: у неё внутри огромная дыра. Поэтому она так скрючилась, сжалась – она прячет её в своем теле, словно теперь, когда дело сделано, она стеснятся своего поступка.
Она поднимает стеклянные шарики невидящих глаз… Её лицо стало узким и сухим: щеки ввалились, пергамент кожи обтянул остов лица, и теперь скулы и нижняя челюсть стали острыми, словно бритва. Она смотрит на него своими огромными глазами и Максим видит, что сталь покинула радужку – они превратились в полупрозрачную мутную акварель. И вот тогда рождается цвет: сердце мальчика взрывается алым. Красная любовь быстрыми толчками от сердца к периферии – ему так жаль её. Алыми завитками нежности, по венам и нервным окончаниям, тонкими побегами любви к совершенно чужому человеку (я хочу помочь тебе), заполняя нутро сладостью с послевкусием горечи на губах, заставляя бессильно сжимать кулаки…(Как тебе помочь?)
Она смотрит на маленького человека, а затем её веки, тяжелые, налитые свинцом, медленно опускаются, чтобы с огромным усилием снова подняться наверх – её взгляд медленно и лениво ползет от лица к груди, запинаясь и срываясь, спускается по животу, ногам и упирается в пол. Максим бросает взгляд на столик: там все пестрит и рябит разноцветными надписями коробочек и бутылочек. Там, словно грибы после дождя расцвела яркая поляна непонятных слов: на картонных пачках и пластике, на бутылках и блистерах – ничего из написанного Максиму не знакомо, но одно ему ясно – в данный момент она почти ничего не соображает. Почти…
Она поднимает глаза и смотрит куда-то за спину: секунда, другая, и вот каменное лицо еле заметно озаряется светом – белесые, бесцветные глаза вспыхивают металлом. Она обращается к пространству за его спиной:
– Привет.
Максим оборачивается. Позади него переминается с ноги на ногу Егор. Бледный, напуганный, он стал белым и почти прозрачным от страха, его взгляд мечется между братом и человеком в инвалидном кресле, а губы еле заметно дрожат:
– Я пришел за тобой, – едва слышно шепчет мальчишка брату. – Ты пропал…
– Я сейчас приду, Егор, – отвечает Максим. – Возвращайся в комнату…
– Нет, нет! – человек в кресле оживает скрипучим голосом, и оба мальчика поворачиваются к ней. Она впилась стеклянными глазами в Егора и скрежещет, словно старые дверные петли. – Подойди.
Егор не слушает её – он вопросительно смотрит на брата. Как и всегда. Каждый раз, когда он не знает, что делать он спрашивает Максима: «Скажи, что мне делать?» Вот и сейчас, не словами – одними глазами, губами, раскрытыми в немом вопросе, он спрашивает: «Что мне делать?» Максим сомневается, Максим боится, Максим болеет дурным предчувствием – алая любовь в теле огибает сомнения, как вода огибает поваленное дерево на пути русла реки, но глубоко, где-то в животе рождается знакомое темно-синее…
Человек в инвалидном кресле машет иссушенной рукой, подзывая Егора к себе, а Максим судорожно ищет правильный ответ. Внезапно он вспоминает: «Посмотри на неё, Максим. Кого она может тронуть? У неё нет сил даже на то, чтобы сидеть ровно…» Дядя Коля не станет врать. Он никогда его не обманывал, он всегда был на его стороне, и раз он говорит, что она не опасна…
Максим поворачивается к Егору и кивает. Тот быстро подбегает к брату, становится рядом с ним и хватает его руку. Максим сжимает крохотную ладошку и чувствует, какая она холодная. Она оба переводят взгляды на человека в инвалидном кресле, а она… Медленно, очень медленно поднимает трясущуюся руку, заносит её над столиком и берет пластиковый бутылек. Открывает и: одна, две, три… Немного подумав, она вытряхивает еще две таблетки. Ожившие глаза женщины смотрят на Егора, не мигая, а раскрытая ладонь, сухая, как ветка мертвого дерева тянется к мальчику.
– Хочешь витаминки? – спрашивает она Егора.
Дядя Коля врать не станет.
– Они полезные, – говорит человек в кресле.
(Посмотри на неё, Максим. Кого она может тронуть?)
– От них маленькие мальчики растут большими и сильными… – шепчет она.
Дядя Коля никогда не обманывал…
***
Моргаю, щурюсь, закрываю глаза и тру веки с такой силой, что становится больно. Потом снова открываю: нет, не показалось. Мой взгляд снова перескакивает со стены на дальний край кровати, где лежат джинсы и свитер. Эта идиотская песня… Я снова поднимаю глаза и смотрю на стену.
Собаки мертвы.
Меня пробирает до костей и не только от холода, но все же… Поднимаюсь с кровати – слишком резко – голова идет кругом. Замираю, закрываю глаза и жду, пока земля не перестанет вертеться. Становится легче, и я подхожу к окну и закрываю его. Лучший будильник – настежь распахнутое окно. Особенно, если человек в одной футболке, а одеяло мокнет в ванной. Я смотрю на мир за стеклом и не могу разобрать – ранее утро или вечер? «Панацея», будь она не ладна, выветривается очень плохо: остается в крови долго и покидает её с большой неохотой, вцепляясь в тело, как натасканный бойцовый пес. Я снова поворачиваюсь к стене.
«Собаки мертвы», – так там написано. Не кровью, слава Богу – маркером. Белой краской-карандашом на темно-синей стене: «Собаки мертвы».
Мне полагается радоваться? Я сплясать должна?
Вспоминаю, что мне холодно и возвращаюсь к кровати. Нижнее белье – не ахти какое, но новое и мой размер. Кто-нибудь, вырубите звук! Протягиваю руку и вижу, как еле заметно дрожат пальцы. Вижу дрожь, но не чувствую – это «панацея». Вот она, родненькая. А ведь это только её «хвост» – бо?льшая часть уже выветрилась. Стаскиваю с себя футболку и облачаюсь в нижнее белье, а вот джинсы…
Это мои джинсы – мои старые джинсы. Те самые, в которых я была в «Сказке» впервые. Я удивлена? Ни фига я не удивлена! Я просто напяливаю их на свой зад и мечтаю, чтобы кто-нибудь вырубил эту пошлую попсу. Не удивлена я по той же причине, по которой не чувствую тремора рук – мерзкий хвост панацеи все еще вьется по моим венам и делает меня тряпичной куклой. Куклой, которая спокойно застегивает молнию джинсов, пуговицу и флегматично протягивает руку, подцепляя тонкий «мышиный» свитер. Он тоже мой, и тоже привет из прошлого. Привет, от которого мне ни горячо ни холодно… пока. Я снова бросаю взгляд на стену – вот что меня действительно удивляет, вот прямо сейчас, даже под анестезией «панацеи», так это то, что и правда поверила, что Максим был со мной. Честно. Я была абсолютно уверена, что проснусь, а он рядом: жестокий, полный ледяной ненависти, шелковый мальчик, беззащитный под моими руками, теплый ото сна… Ухмыляюсь. Интересно, женщину, которую ничему не учит время и опыт, можно просто дурой называть или все-таки есть какое-то конкретное, специализированное определение? Надо будет загуглить… Если будет возможность гуглить.
«Now baby
Are you sure you wanna leave?…», – выводят колонки голосового оповещения.
Хотелось бы… Звук тихий лишь потому, что в спальне их нет, но я точно знаю, что когда я выйду из комнаты…
«…Cause when I play, I usually play for keeps»
… будет громче.
Я в последний раз перечитываю написанное на стене, и мысль, рождающаяся в голове, такая мерзкая, что даже сквозь пелену «панацеи» на моем лице проступает отвращение – злобный клоун. Ладони – к лицу, вот дерьмо… Оказывается, королевская блядь – не та, что спит с королем, а та, что обслуживает его свиту. Стою и беззвучно скалю зубы, прячусь за ладонями. На стене почерк не Максима, и вообще везде не его почерк. Вырубил бы уже кто-нибудь звук, а то что-то уж очень быстро закончился день подарков. Обхожу кровать и пересекаю комнату, открываю дверь.
В коридоре – громко, гораздо громче, чем в комнатах. Гостиная пуста, и, глядя на неё сверху, я не спускаюсь – я с сомнением осматриваю гостиную, где ни души. Медленно перехожу из комнаты в комнату: открываю двери, заглядываю в кладовки и ванные комнаты, словно ищу вредителей, а не людей.
– Вика… – зову я.
Еще одна закрытая дверь раскрывает передо мной зев – там никого. Закрываю, оглядываю второй этаж, а затем иду к лестнице.
– Он же должен был знать… Как же романтика фатума? – Белка делает легкий взмах рукой в сторону Олега, и ствол Glock матово переливается в тусклом предрассветном мареве. Взгляд Психа неотрывно следит за дулом глушителя, матовым корпусом пистолета, и руки сумасшедшего, зажатые металлическими браслетами наручников, непроизвольно сжимают кулаки. Грудная клетка Психа, словно огромные кузничные меха, быстро и шумно качает воздух, так что в кромешной тишине и сером предрассветном воздухе есть лишь звук дыхания и запах пороха. Выстрел прозвучал совсем недавно, но, кажется, минули столетия между незатейливым диалогом бывшего мэра с Белкой, и бывшего мэра, лежащего на полу с дырой во лбу. Разговор был очень коротким:
– Если согласишься встретиться со своим сыном и честно признаться ему, что забил на его лечение – будешь жить.
– Согласен! – не раздумывая, ответил Олег.
А потом прозвучал выстрел. Бывший мэр рухнул на пол, а Белка пробубнил:
– Жалкая мразь… – а затем поднес глушитель к носу и шумно втянул носом. – Мне нравится запах, – сказал он, обращаясь к Психу, – а тебе?
А Психу очень хочется, чтобы палец парня на спусковом крючке дернулся так сильно, чтобы и предохранительный крючок тоже сработал. Псих мечтает, чтобы Белке снесло полчерепа. Но Белка недовольно мурлычет:
– Эта мразь даже думать не стала.
– Знаешь, – глухо басит Псих, – исповедоваться гораздо сложнее, чем тебе кажется. Может, он и не смог бы…
– Смог бы, – отрезает Белка.
Теперь бывший мэр, и вообще, во всех отношениях совсем бывший, уже ничего не сможет – бывший-мэр-мразь лежит на полу, и из его головы вытекает гранатово-бордовая лужа.
Белка подходит к Олегу, останавливается в шаге от тела и смотрит на него, а затем спрашивает, обращаясь к Психу:
– Как думаешь, это похоже на инсульт?
Глава 8. Ненавидь меня – говори со мной
«Совсем как неживая», – подумал Максим.
Он смотрел на женщину и думал о том, как бы он назвал её, если бы осмелился открыть рот? Как звучит её суть? Какая она на звук? Максим разглядывает складки длинной, широкой юбки, которые полностью прячут её ноги, и только колени остро выпирают под тканью одежды, словно остов, сожженного дотла, дома. Мама? Нет. Она права – мамой она никогда не была. Он смотрит на тонкое, тщедушное тело, на ткань кофты, буквально ввалившуюся внутрь её тела – даже отсюда, в нескольких шагах от неё, кажется, что там, под одеждой, остались только кости. Может быть, по имени? Но он не может вспомнить её имени, потому как его присвоил себе отец: он единственный, кто произносит его, но делает он это так тихо, так интимно, что никому, кроме них двоих его не слышно. Он смотрит на бледно-серые кисти рук и непроизвольно сравнивает их с лапами мертвых птиц. Значит она просто… женщина? А так бывает? Максим разглядывает хрупкое существо в инвалидном кресле и впервые в жизни ему в голову приходит грубая, мерзкая, жестокая мысль – теперь она и женщиной быть не захотела. По крайней мере, в основополагающем, для женской физиологии, смысле. Максим слышал разговор отца и дяди Коли: врачи сказали, что пришлось вырезать абсолютно все – матку, оба яичника, бо?льшую часть влагалища. Она разодрала в клочья все, до чего смогла добраться. Они удалили это, не задумываясь, ведь без репродуктивной системы женщина может жить, а вот без кишечника… Полметра тонкого, и небольшая часть толстого кишечника. В какой-то момент они уже не надеялись выцарапать её с того света, ведь она должна была умереть от потери крови еще до приезда «скорой». Максим смотрит на человека в инвалидном кресле и чувствует, как желудок превращается в ледяной ком: у неё внутри огромная дыра. Поэтому она так скрючилась, сжалась – она прячет её в своем теле, словно теперь, когда дело сделано, она стеснятся своего поступка.
Она поднимает стеклянные шарики невидящих глаз… Её лицо стало узким и сухим: щеки ввалились, пергамент кожи обтянул остов лица, и теперь скулы и нижняя челюсть стали острыми, словно бритва. Она смотрит на него своими огромными глазами и Максим видит, что сталь покинула радужку – они превратились в полупрозрачную мутную акварель. И вот тогда рождается цвет: сердце мальчика взрывается алым. Красная любовь быстрыми толчками от сердца к периферии – ему так жаль её. Алыми завитками нежности, по венам и нервным окончаниям, тонкими побегами любви к совершенно чужому человеку (я хочу помочь тебе), заполняя нутро сладостью с послевкусием горечи на губах, заставляя бессильно сжимать кулаки…(Как тебе помочь?)
Она смотрит на маленького человека, а затем её веки, тяжелые, налитые свинцом, медленно опускаются, чтобы с огромным усилием снова подняться наверх – её взгляд медленно и лениво ползет от лица к груди, запинаясь и срываясь, спускается по животу, ногам и упирается в пол. Максим бросает взгляд на столик: там все пестрит и рябит разноцветными надписями коробочек и бутылочек. Там, словно грибы после дождя расцвела яркая поляна непонятных слов: на картонных пачках и пластике, на бутылках и блистерах – ничего из написанного Максиму не знакомо, но одно ему ясно – в данный момент она почти ничего не соображает. Почти…
Она поднимает глаза и смотрит куда-то за спину: секунда, другая, и вот каменное лицо еле заметно озаряется светом – белесые, бесцветные глаза вспыхивают металлом. Она обращается к пространству за его спиной:
– Привет.
Максим оборачивается. Позади него переминается с ноги на ногу Егор. Бледный, напуганный, он стал белым и почти прозрачным от страха, его взгляд мечется между братом и человеком в инвалидном кресле, а губы еле заметно дрожат:
– Я пришел за тобой, – едва слышно шепчет мальчишка брату. – Ты пропал…
– Я сейчас приду, Егор, – отвечает Максим. – Возвращайся в комнату…
– Нет, нет! – человек в кресле оживает скрипучим голосом, и оба мальчика поворачиваются к ней. Она впилась стеклянными глазами в Егора и скрежещет, словно старые дверные петли. – Подойди.
Егор не слушает её – он вопросительно смотрит на брата. Как и всегда. Каждый раз, когда он не знает, что делать он спрашивает Максима: «Скажи, что мне делать?» Вот и сейчас, не словами – одними глазами, губами, раскрытыми в немом вопросе, он спрашивает: «Что мне делать?» Максим сомневается, Максим боится, Максим болеет дурным предчувствием – алая любовь в теле огибает сомнения, как вода огибает поваленное дерево на пути русла реки, но глубоко, где-то в животе рождается знакомое темно-синее…
Человек в инвалидном кресле машет иссушенной рукой, подзывая Егора к себе, а Максим судорожно ищет правильный ответ. Внезапно он вспоминает: «Посмотри на неё, Максим. Кого она может тронуть? У неё нет сил даже на то, чтобы сидеть ровно…» Дядя Коля не станет врать. Он никогда его не обманывал, он всегда был на его стороне, и раз он говорит, что она не опасна…
Максим поворачивается к Егору и кивает. Тот быстро подбегает к брату, становится рядом с ним и хватает его руку. Максим сжимает крохотную ладошку и чувствует, какая она холодная. Она оба переводят взгляды на человека в инвалидном кресле, а она… Медленно, очень медленно поднимает трясущуюся руку, заносит её над столиком и берет пластиковый бутылек. Открывает и: одна, две, три… Немного подумав, она вытряхивает еще две таблетки. Ожившие глаза женщины смотрят на Егора, не мигая, а раскрытая ладонь, сухая, как ветка мертвого дерева тянется к мальчику.
– Хочешь витаминки? – спрашивает она Егора.
Дядя Коля врать не станет.
– Они полезные, – говорит человек в кресле.
(Посмотри на неё, Максим. Кого она может тронуть?)
– От них маленькие мальчики растут большими и сильными… – шепчет она.
Дядя Коля никогда не обманывал…
***
Моргаю, щурюсь, закрываю глаза и тру веки с такой силой, что становится больно. Потом снова открываю: нет, не показалось. Мой взгляд снова перескакивает со стены на дальний край кровати, где лежат джинсы и свитер. Эта идиотская песня… Я снова поднимаю глаза и смотрю на стену.
Собаки мертвы.
Меня пробирает до костей и не только от холода, но все же… Поднимаюсь с кровати – слишком резко – голова идет кругом. Замираю, закрываю глаза и жду, пока земля не перестанет вертеться. Становится легче, и я подхожу к окну и закрываю его. Лучший будильник – настежь распахнутое окно. Особенно, если человек в одной футболке, а одеяло мокнет в ванной. Я смотрю на мир за стеклом и не могу разобрать – ранее утро или вечер? «Панацея», будь она не ладна, выветривается очень плохо: остается в крови долго и покидает её с большой неохотой, вцепляясь в тело, как натасканный бойцовый пес. Я снова поворачиваюсь к стене.
«Собаки мертвы», – так там написано. Не кровью, слава Богу – маркером. Белой краской-карандашом на темно-синей стене: «Собаки мертвы».
Мне полагается радоваться? Я сплясать должна?
Вспоминаю, что мне холодно и возвращаюсь к кровати. Нижнее белье – не ахти какое, но новое и мой размер. Кто-нибудь, вырубите звук! Протягиваю руку и вижу, как еле заметно дрожат пальцы. Вижу дрожь, но не чувствую – это «панацея». Вот она, родненькая. А ведь это только её «хвост» – бо?льшая часть уже выветрилась. Стаскиваю с себя футболку и облачаюсь в нижнее белье, а вот джинсы…
Это мои джинсы – мои старые джинсы. Те самые, в которых я была в «Сказке» впервые. Я удивлена? Ни фига я не удивлена! Я просто напяливаю их на свой зад и мечтаю, чтобы кто-нибудь вырубил эту пошлую попсу. Не удивлена я по той же причине, по которой не чувствую тремора рук – мерзкий хвост панацеи все еще вьется по моим венам и делает меня тряпичной куклой. Куклой, которая спокойно застегивает молнию джинсов, пуговицу и флегматично протягивает руку, подцепляя тонкий «мышиный» свитер. Он тоже мой, и тоже привет из прошлого. Привет, от которого мне ни горячо ни холодно… пока. Я снова бросаю взгляд на стену – вот что меня действительно удивляет, вот прямо сейчас, даже под анестезией «панацеи», так это то, что и правда поверила, что Максим был со мной. Честно. Я была абсолютно уверена, что проснусь, а он рядом: жестокий, полный ледяной ненависти, шелковый мальчик, беззащитный под моими руками, теплый ото сна… Ухмыляюсь. Интересно, женщину, которую ничему не учит время и опыт, можно просто дурой называть или все-таки есть какое-то конкретное, специализированное определение? Надо будет загуглить… Если будет возможность гуглить.
«Now baby
Are you sure you wanna leave?…», – выводят колонки голосового оповещения.
Хотелось бы… Звук тихий лишь потому, что в спальне их нет, но я точно знаю, что когда я выйду из комнаты…
«…Cause when I play, I usually play for keeps»
… будет громче.
Я в последний раз перечитываю написанное на стене, и мысль, рождающаяся в голове, такая мерзкая, что даже сквозь пелену «панацеи» на моем лице проступает отвращение – злобный клоун. Ладони – к лицу, вот дерьмо… Оказывается, королевская блядь – не та, что спит с королем, а та, что обслуживает его свиту. Стою и беззвучно скалю зубы, прячусь за ладонями. На стене почерк не Максима, и вообще везде не его почерк. Вырубил бы уже кто-нибудь звук, а то что-то уж очень быстро закончился день подарков. Обхожу кровать и пересекаю комнату, открываю дверь.
В коридоре – громко, гораздо громче, чем в комнатах. Гостиная пуста, и, глядя на неё сверху, я не спускаюсь – я с сомнением осматриваю гостиную, где ни души. Медленно перехожу из комнаты в комнату: открываю двери, заглядываю в кладовки и ванные комнаты, словно ищу вредителей, а не людей.
– Вика… – зову я.
Еще одна закрытая дверь раскрывает передо мной зев – там никого. Закрываю, оглядываю второй этаж, а затем иду к лестнице.