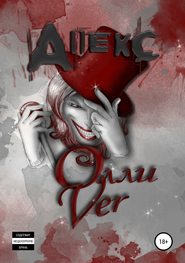По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белые лилии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Совсем расклеилась.
Я киваю, понимая, что он этого не увидит.
– Горячая вода тоже есть.
Я осекаюсь, потому что слышу издевку. Замираю, вслушиваюсь, облизываю губы – знакомая горечь. Отталкиваю его, двигаюсь к стене и, едва не расшибаю себе нос, натыкаясь на неё. Шарю по стене, нахожу выключатель и щелкаю. Комната заливается мягким светом. Я смотрю на высокую фигуру, на крупный локон светлых волос и чувствую, как мягким теплом разливается по телу равнодушие. Я подхожу вплотную – смотрю на легкую вуаль длинных ресниц, вижу собственное отражение в хрустальных глазах, прекрасно-пустых в своей ненависти ко всему живому, и ощущаю безразличие, текущее по венам. Безразличие это родилось не в сердце, а в желудке. Я беру бутылку из его рук и смотрю: на самом дне прозрачной бутылки плавает крошечный осколок «панацеи», который вот-вот растворится в воде до конца.
Поднимаю глаза и смотрю на Белку. Пухлые губы растягиваются в улыбке, но глаза остаются безучастными – половинчатая ухмылка озаряет молодое лицо. Злобный клоун. Он поднимает бутылку и с силой встряхивает её, и остатки таблетки растворяются в воде. Он прикладывается к голышку, делает глоток и нарочито медленно облизывает губы. А я гадаю, сколько таблеток «панацеи» было вообще. Он словно бы читает мои мысли:
– Тебе хватит, – говорит Белка. – Посторожить тебя в ду?ше?
Мой рот растягивается в улыбке, и глядя на неё, прекрасный Херувим словно спотыкается – легкая тень недоумения. А потом я смеюсь. Сквозь слезы мой смех сильно отдает истерией, но мне все же смешно – жалкий, маленький трус, которому всегда приходится полагаться на единственный весомый фармо-довод в своем кармане. Ни изобретательности, ни элегантности, ни красоты упрощения: никаких иголок под кожей, никакого сверла без анестезии и пыток каплей воды. Никакого страха нет – сплошное позерство. Все до примитивности просто. Максим умел сделать так, что человеку становилось неловко, страшно, жутко, больно одними словами. Максим умел унизить, вытащить больное, вскрыть нарыв, но при этом никогда не брезговал работать руками. Максим любил крайности и простоту – либо битой по лицу, либо поселить в твоей голове мысль о том, как легко вырастить оскотинившееся животное из своего любимого ребенка, ведя его дорогой благих намерений, и смотреть, как идея эта растет, развивается, пожирает тебя изнутри. А Белка этого не умеет. Поэтому – «панацея». Везде и всюду, как самое простое и незатратное средство. И если уж он убьет меня, то сделает это бездарно.
И мне становится смешно. Ох, уж эта «панацея»… как быстро работает! Я смеюсь так искренне, что не могу успокоиться. Я зажимаю рот руками и думаю о том, что даже садистом можно быть весьма посредственным. А мой смех рассыпается дробью по ванной комнате, отражается от стен, скачет по полу россыпью крошечных стеклянных шариков. Давлюсь смехом. Где-то на задворках разума, еще не затуманенного наркотиком, я понимаю, что получу – вот прям сейчас. Рукой, или коленом под дых, а может просто ладонью наотмашь – даже этого мне будет достаточно, чтобы заткнуться. И, вроде бы даже боюсь этого, но… Но Белка молча смотрит на меня: улыбка окончательно растворяется в идеально выверенных чертах молодого, красивого лица. А я смотрю на него в ожидании боли и жду, когда же он прекратит мою истерику.
Он обходит меня, открывает дверь и исчезает в проеме, громким хлопком закрывая нашу беседу. Здесь и сейчас я вспоминаю, что он любил Максима не меньше меня.
Истерика сменяется усталостью – во мне расцветает пустота. Я полна «панацеи». Она разлилась по всему телу, и теперь оно стало полой оболочкой. Все-таки была одна таблетка, а может и вовсе половина, ибо успокоительный эффект – побочное ответвление. Будь это полная доза, я бы уже ловила крошечных разноцветных слоников, бегающих по полу ванной, за их прозрачные крылышки и рассаживала меленьких пищащих тварей по своим карманам. Но взамен полноценной галлюцинации и я получаю спокойствие – тихий стук сердца, отяжелевшие веки и полумесяц улыбки. Я все еще хочу есть и пить, я все так же напугана и одинока, но все эти составляющие отделились от моей сущности и, на короткое время превратились в акварельный фон меня – я словно смотрела на них со стороны, и они больше не руководили мной. Они повисли в воздухе огромными разноцветными шарами. Хочешь – бери их с собой, хочешь – нет. И я не взяла. Я выключила воду в ванной и не притронулась к одеялу – оно так и осталось мокнуть на дне. Я сняла с себя одежду, открыла прозрачную дверь душевой, вывернула оба крана на всю и отступила назад – трубы взревели, захрипели, что-то внутри забулькало, затрещало, а затем из широкой, квадратной лейки в потолке ринулись струи грязной, ржавой воды. Я смотрю, как вода из коричнево-рыжей становится блекло-оранжевой и думаю о том, как стало легко. Я вижу, как стеклянный куб душевой заполняется паром, и мечтаю смыть с себя грязь. И когда вода становится светлой, я шагаю внутрь.
Я лежу на кровати и смотрю ночь за окном, как кино. Я больше не думаю о том, как красива бесконечная вселенная – мне плевать на её красоту и бесконечность. Веки такие тяжелые. Мой взгляд лениво чертит полосы, разделяя черный лоскут неба на колотые витражи, медленно перемещается из одного края вселенной в другой, а затем ползет по раме огромного окна, перемещается по дереву, вьется по потолку: в моих зрачках отражаются разноцветные шары – голод, страх, жажда, боль, усталость. Странно смотреть на себя со стороны. Гребаная «панацея». Я вздыхаю, закрываю глаза и снова, как и в миллиарды раз до этого, без помощи всякого фарм-волшебства, пересекаю полмира, отматываю назад шесть часов и оказываюсь на другом краю земли. Я не гуляю по тихим улочкам, не слушаю непривычную речь незнакомых мне людей, я – невидимой тенью к аккуратному домику, в крошечную комнату второго этажа: там самое дорогое сокровище, надежно спрятанное, укрытое пушистым одеялом, в разноцветной пижаме читает «Шагающий замок» перед сном. Спокойной ночи, Пуговица. Тяжелые веки – вверх, вниз, вверх… Я поворачиваюсь. Пожалуйста, приходи. Сгибаюсь пополам, сжимаюсь в тугой комок. Мокрые волосы, его футболка, я – собрание никому не нужных деталей, и без моей дочери, без моего Короля совершенно бесполезна. Хочу, чтобы мир снова стал огромной песочницей. Кто-то огромный и сильный, пожалуйста, возвращайся! Взмах тяжелых ресниц. Еще один. И еще… Тяжелые веки закрываются, и я тону в густом сиропе кромешной тьмы…
Максим стоит у окна и смотрит на меня.
Тяжесть моих ресниц мгновенно испаряется, тяжесть моего тела растворяется в крови, обнажается нежностью, бежит по венам, просачивается в легкие, поднимается по горлу, превращаясь в тихое:
– Больше не уходи от меня, ладно?
Его губы рисуют удовольствие – легкая улыбка с оттенком смущения, и стальные глаза становятся цвета грозового неба – клубящиеся черными тучами, бескрайние и бездонные. Они – жестокие, холодные, как будто немного уставшие – обнажают любовь, беззастенчиво лаская меня, гладя, любя каждую линию, каждый изгиб моего тела. Впервые в жизни я думаю, что люблю свои сны – обожаю свои кошмары. Здесь, где нет ничего нормального, обыденность лишается права голоса. Мне кажется – я вижу в Максиме «Сказку»… Она клубится внутри моего Короля иссиня-фиолетовым дымом, заполняет его, вьется полупрозрачными завитками сумасшествия цвета индиго, сверкает миллиардами звезд, искрится любовью и ненавистью…
Я поднимаюсь, зачем-то поправляю футболку, пряча бедра… Между нами давно нет лишнего – стеснение, показное кокетство, искреннее смущение – все это пройдено. Все это уже не про нас. Мое тело изучено, его уродство обнажено, так какой смысл прятать то, что мы знаем друг о друге наизусть? Господи, успеть бы до того, как все происходящее превратится в безумный фарс, пляску больного воображения. Слезаю с кровати и замираю – я смотрю на него и мне нечего сказать. Он такой настоящий, он так близко…
– Господи… – шепчу я.
Никаких игр, никакой боли, просто Максим – он смотрит открыто, он не прячется за ненавистью. Он говорит:
– Я соскучился.
И больше ничего не ждет. Шагает – ладони на мою шею, тянут на себя, и мой Максим превращается в прикосновение – на моих губах легкий, как перышко, поцелуй. Его губы еле касаются моих, волна горячего дыхания – сладким ликером – сердце взрывается, легкие наполняются словами:
– Мне так не хватает тебя… – шепчу я. Серые глаза видят меня насквозь, он ласкает мою любовь большим пальцем по моей щеке, – Пожалуйста, не уходи.
Он целует меня. Его губы раскрываются – мои губы ловят Максима, пытаются удержать. Чувствую сладость языка, хочу поймать его, вобрать в себя любимое тело, но отдаю больше, чем есть во мне. Забирай все! Все! Все во мне – твое. Его рука крепче сжимает шею, вторая спускается по спине – пальцы сжимают тонкую ткань футболки и тянут наверх. Секунда – и я совершенно нагая. Он отрывается от моих губ, взгляд нежно ласкает мое тело… Я – самое совершенное создание! Нет тела прекрасней моего – шепчут его руки. Они прикасаются ко мне, они гладят, ласкают, рисуют вожделение тонкими завитками нежных прикосновений. Они рассказывают мне, как нежна розовая плоть соска, губы вторят его рукам – он наклоняется, и они нежно касаются, обвивают, язык дразнит мое тело.
– Хочу тебя.
Он отрывается от меня, стаскивает с себя свитер и джинсы. Я смотрю на любимое тело, прикасаюсь, провожу руками по груди, спускаюсь вниз – ладони скользят по шелковой коже, узнают рельеф тела, впитывают жар и самый удивительный из всех ароматов – я вдыхаю запах его тела, пока мои пальцы забираются под тонкую ткань нижнего белья, цепляют и тянут вниз… Мой Максим – сладкий, безумный, беззащитный перед моим руками замирает, потому что они ласкают и любят его. Без стеснения, без ложной скромности – мой Король нелюбимых, я люблю тебя! Каждое движение моих рук ускоряет его дыхание. Он притягивает меня, целует, а я люблю его, и каждое движение моих нежных пальцев приближает его оргазм. Он останавливает меня:
– Не торопись, – выдыхает он, а затем толкает меня на кровать.
Я падаю, смеюсь, а он даже не улыбается – он залезает на кровать, забирается сверху и закрывает собой целый мир. Ни единой живой души, кроме нас – мы единственные люди на всей земле. Самые любящие, самые любимые – единое целое, в коконе любви, такой тонкой, такой прочной и сильной. Мои ноги обвивают его бедра – иди ко мне, забирайся в меня, забирай все, что у меня есть. Тяжесть любимого тела ложится на меня, руки обвивают, пряный и легкий аромат тела обволакивает. Его тело подчиняет, растворяет меня. Я – продолжение его рук. Я – тонкое послевкусие запаха любимого тела. Я – любовь…
Его рука скользит по внутренней стороне бедра. Весь мир – секунды до его прикосновения, и вот пальцы прикасаются к нежной плоти – гладят, ласкают. Мои губы рождают стон – желание горит и пульсирует во мне, ускоряя сердце. Он целует мои губы, но они не отвечают – они пытаются схватить воздух, которого не почти осталось. Мои руки цепляются, тянут его, ноги сжимаются, тело выгибается, льнет к моему любовнику… Его горячая плоть прикасается, ласкает, нажимает…
– Боже мой…
…проникает, заполняя собой меня. Мой стон… Мои губы, мои руки – мое тело ловит оргазм в каждом движении его тела. Пальцы впиваются в его спину, губы рождают сладкие звуки, слова… Его рука скользит по бедру, забирается по ягодицы и притягивает к себе – сильнее, глубже, быстрее… Мое тело сжимается, плавится раскаленным стеклом в его руках и ловит любое движение следом за его бедрами, повторяя ритм его тела, становясь его музыкой. Только не отпускай меня! Я растворяюсь. Я – движение, прикосновение, шепот, стон… Я – любовь. Задыхаюсь, впиваюсь, обвиваю – он живет во мне. Быстро, сильно, сладко. Каждое движение его тела, приближает оргазм – мое тело стонет, сжимается, замирает и… Раскаленная нежность взрывается внутри – я захлебываюсь, задыхаюсь. Чувствую его оргазм, слышу его дыхание, чувствую боль от пальцев, сжимающих мое тело… Хочу вобрать его в себя, забраться в него, поглотить и жить в нем вечно. Любовь разливается по нашим венам – мы единое, мы чувствуем одинаково. И слов не нужно – я чувствую его любовь внутри.
В тишине, в сладком одиночестве, мы целуем друг друга, наши руки ненасытны, жадны, а тела так близки, что сливаются воедино – где начинается он, где заканчиваюсь я, уже не имеет значения. Мое тело – наш храм. Мгновения, когда в близости нет физического. Я прошу:
– Останься со мной. Прошу тебя не оставляй меня!
Он говорит:
– Все будет хорошо…
Он ускользает, тает, растворяется. Я хватаюсь за него, я впиваюсь в гибкую, жилистую шею – мои ногти оставляют алые борозды. Я проклинаю свои кошмары, кричу или плачу, я умоляю и торгуюсь, я ловлю его…
***
Рука ложится на спину девушки: ладонь медленно скользит по лопатке, смещается к центру и пальцы медленно спускаются вниз по впадине позвоночника, подушечками пальцев отмеривая бугорки позвонков – один, два, три…
Девушка просыпается: она открывает глаза, отрывает голову от подушки и оборачивается – заспанное личико Вики озаряет узнавание:
– Ну, наконец-то… – недовольно бубнит она.
Она поднимается и садится на кровати, трет ручками заспанное лицо. Все это время он молчаливо наблюдает за её движениями: его глаза смотрят, как изящные кисти рук складываются ковшиком, чтобы прикрыть зевающий ротик, наслаждаются трепетанием длинных ресниц, пытающихся смахнуть с себя сон.
– Нам пора, – говорит он.
Вика смотрит на него:
– Ты мне поесть привез?
Он кивает:
– Будет много еды.
– Слава Богу… – бубнит девушка и слезает с кровати.
***
Белка говорит:
– Ну и зачем ты это сделал?
Псих ничего не отвечает. Псих громко и быстро сопит, исподлобья смотрит на Белку и молчит. Белка в деланном недоумении разводит руками, мол «ну вот зачем ты так?», а затем подтверждает жест словами:
– Я старался, старался…
Я киваю, понимая, что он этого не увидит.
– Горячая вода тоже есть.
Я осекаюсь, потому что слышу издевку. Замираю, вслушиваюсь, облизываю губы – знакомая горечь. Отталкиваю его, двигаюсь к стене и, едва не расшибаю себе нос, натыкаясь на неё. Шарю по стене, нахожу выключатель и щелкаю. Комната заливается мягким светом. Я смотрю на высокую фигуру, на крупный локон светлых волос и чувствую, как мягким теплом разливается по телу равнодушие. Я подхожу вплотную – смотрю на легкую вуаль длинных ресниц, вижу собственное отражение в хрустальных глазах, прекрасно-пустых в своей ненависти ко всему живому, и ощущаю безразличие, текущее по венам. Безразличие это родилось не в сердце, а в желудке. Я беру бутылку из его рук и смотрю: на самом дне прозрачной бутылки плавает крошечный осколок «панацеи», который вот-вот растворится в воде до конца.
Поднимаю глаза и смотрю на Белку. Пухлые губы растягиваются в улыбке, но глаза остаются безучастными – половинчатая ухмылка озаряет молодое лицо. Злобный клоун. Он поднимает бутылку и с силой встряхивает её, и остатки таблетки растворяются в воде. Он прикладывается к голышку, делает глоток и нарочито медленно облизывает губы. А я гадаю, сколько таблеток «панацеи» было вообще. Он словно бы читает мои мысли:
– Тебе хватит, – говорит Белка. – Посторожить тебя в ду?ше?
Мой рот растягивается в улыбке, и глядя на неё, прекрасный Херувим словно спотыкается – легкая тень недоумения. А потом я смеюсь. Сквозь слезы мой смех сильно отдает истерией, но мне все же смешно – жалкий, маленький трус, которому всегда приходится полагаться на единственный весомый фармо-довод в своем кармане. Ни изобретательности, ни элегантности, ни красоты упрощения: никаких иголок под кожей, никакого сверла без анестезии и пыток каплей воды. Никакого страха нет – сплошное позерство. Все до примитивности просто. Максим умел сделать так, что человеку становилось неловко, страшно, жутко, больно одними словами. Максим умел унизить, вытащить больное, вскрыть нарыв, но при этом никогда не брезговал работать руками. Максим любил крайности и простоту – либо битой по лицу, либо поселить в твоей голове мысль о том, как легко вырастить оскотинившееся животное из своего любимого ребенка, ведя его дорогой благих намерений, и смотреть, как идея эта растет, развивается, пожирает тебя изнутри. А Белка этого не умеет. Поэтому – «панацея». Везде и всюду, как самое простое и незатратное средство. И если уж он убьет меня, то сделает это бездарно.
И мне становится смешно. Ох, уж эта «панацея»… как быстро работает! Я смеюсь так искренне, что не могу успокоиться. Я зажимаю рот руками и думаю о том, что даже садистом можно быть весьма посредственным. А мой смех рассыпается дробью по ванной комнате, отражается от стен, скачет по полу россыпью крошечных стеклянных шариков. Давлюсь смехом. Где-то на задворках разума, еще не затуманенного наркотиком, я понимаю, что получу – вот прям сейчас. Рукой, или коленом под дых, а может просто ладонью наотмашь – даже этого мне будет достаточно, чтобы заткнуться. И, вроде бы даже боюсь этого, но… Но Белка молча смотрит на меня: улыбка окончательно растворяется в идеально выверенных чертах молодого, красивого лица. А я смотрю на него в ожидании боли и жду, когда же он прекратит мою истерику.
Он обходит меня, открывает дверь и исчезает в проеме, громким хлопком закрывая нашу беседу. Здесь и сейчас я вспоминаю, что он любил Максима не меньше меня.
Истерика сменяется усталостью – во мне расцветает пустота. Я полна «панацеи». Она разлилась по всему телу, и теперь оно стало полой оболочкой. Все-таки была одна таблетка, а может и вовсе половина, ибо успокоительный эффект – побочное ответвление. Будь это полная доза, я бы уже ловила крошечных разноцветных слоников, бегающих по полу ванной, за их прозрачные крылышки и рассаживала меленьких пищащих тварей по своим карманам. Но взамен полноценной галлюцинации и я получаю спокойствие – тихий стук сердца, отяжелевшие веки и полумесяц улыбки. Я все еще хочу есть и пить, я все так же напугана и одинока, но все эти составляющие отделились от моей сущности и, на короткое время превратились в акварельный фон меня – я словно смотрела на них со стороны, и они больше не руководили мной. Они повисли в воздухе огромными разноцветными шарами. Хочешь – бери их с собой, хочешь – нет. И я не взяла. Я выключила воду в ванной и не притронулась к одеялу – оно так и осталось мокнуть на дне. Я сняла с себя одежду, открыла прозрачную дверь душевой, вывернула оба крана на всю и отступила назад – трубы взревели, захрипели, что-то внутри забулькало, затрещало, а затем из широкой, квадратной лейки в потолке ринулись струи грязной, ржавой воды. Я смотрю, как вода из коричнево-рыжей становится блекло-оранжевой и думаю о том, как стало легко. Я вижу, как стеклянный куб душевой заполняется паром, и мечтаю смыть с себя грязь. И когда вода становится светлой, я шагаю внутрь.
Я лежу на кровати и смотрю ночь за окном, как кино. Я больше не думаю о том, как красива бесконечная вселенная – мне плевать на её красоту и бесконечность. Веки такие тяжелые. Мой взгляд лениво чертит полосы, разделяя черный лоскут неба на колотые витражи, медленно перемещается из одного края вселенной в другой, а затем ползет по раме огромного окна, перемещается по дереву, вьется по потолку: в моих зрачках отражаются разноцветные шары – голод, страх, жажда, боль, усталость. Странно смотреть на себя со стороны. Гребаная «панацея». Я вздыхаю, закрываю глаза и снова, как и в миллиарды раз до этого, без помощи всякого фарм-волшебства, пересекаю полмира, отматываю назад шесть часов и оказываюсь на другом краю земли. Я не гуляю по тихим улочкам, не слушаю непривычную речь незнакомых мне людей, я – невидимой тенью к аккуратному домику, в крошечную комнату второго этажа: там самое дорогое сокровище, надежно спрятанное, укрытое пушистым одеялом, в разноцветной пижаме читает «Шагающий замок» перед сном. Спокойной ночи, Пуговица. Тяжелые веки – вверх, вниз, вверх… Я поворачиваюсь. Пожалуйста, приходи. Сгибаюсь пополам, сжимаюсь в тугой комок. Мокрые волосы, его футболка, я – собрание никому не нужных деталей, и без моей дочери, без моего Короля совершенно бесполезна. Хочу, чтобы мир снова стал огромной песочницей. Кто-то огромный и сильный, пожалуйста, возвращайся! Взмах тяжелых ресниц. Еще один. И еще… Тяжелые веки закрываются, и я тону в густом сиропе кромешной тьмы…
Максим стоит у окна и смотрит на меня.
Тяжесть моих ресниц мгновенно испаряется, тяжесть моего тела растворяется в крови, обнажается нежностью, бежит по венам, просачивается в легкие, поднимается по горлу, превращаясь в тихое:
– Больше не уходи от меня, ладно?
Его губы рисуют удовольствие – легкая улыбка с оттенком смущения, и стальные глаза становятся цвета грозового неба – клубящиеся черными тучами, бескрайние и бездонные. Они – жестокие, холодные, как будто немного уставшие – обнажают любовь, беззастенчиво лаская меня, гладя, любя каждую линию, каждый изгиб моего тела. Впервые в жизни я думаю, что люблю свои сны – обожаю свои кошмары. Здесь, где нет ничего нормального, обыденность лишается права голоса. Мне кажется – я вижу в Максиме «Сказку»… Она клубится внутри моего Короля иссиня-фиолетовым дымом, заполняет его, вьется полупрозрачными завитками сумасшествия цвета индиго, сверкает миллиардами звезд, искрится любовью и ненавистью…
Я поднимаюсь, зачем-то поправляю футболку, пряча бедра… Между нами давно нет лишнего – стеснение, показное кокетство, искреннее смущение – все это пройдено. Все это уже не про нас. Мое тело изучено, его уродство обнажено, так какой смысл прятать то, что мы знаем друг о друге наизусть? Господи, успеть бы до того, как все происходящее превратится в безумный фарс, пляску больного воображения. Слезаю с кровати и замираю – я смотрю на него и мне нечего сказать. Он такой настоящий, он так близко…
– Господи… – шепчу я.
Никаких игр, никакой боли, просто Максим – он смотрит открыто, он не прячется за ненавистью. Он говорит:
– Я соскучился.
И больше ничего не ждет. Шагает – ладони на мою шею, тянут на себя, и мой Максим превращается в прикосновение – на моих губах легкий, как перышко, поцелуй. Его губы еле касаются моих, волна горячего дыхания – сладким ликером – сердце взрывается, легкие наполняются словами:
– Мне так не хватает тебя… – шепчу я. Серые глаза видят меня насквозь, он ласкает мою любовь большим пальцем по моей щеке, – Пожалуйста, не уходи.
Он целует меня. Его губы раскрываются – мои губы ловят Максима, пытаются удержать. Чувствую сладость языка, хочу поймать его, вобрать в себя любимое тело, но отдаю больше, чем есть во мне. Забирай все! Все! Все во мне – твое. Его рука крепче сжимает шею, вторая спускается по спине – пальцы сжимают тонкую ткань футболки и тянут наверх. Секунда – и я совершенно нагая. Он отрывается от моих губ, взгляд нежно ласкает мое тело… Я – самое совершенное создание! Нет тела прекрасней моего – шепчут его руки. Они прикасаются ко мне, они гладят, ласкают, рисуют вожделение тонкими завитками нежных прикосновений. Они рассказывают мне, как нежна розовая плоть соска, губы вторят его рукам – он наклоняется, и они нежно касаются, обвивают, язык дразнит мое тело.
– Хочу тебя.
Он отрывается от меня, стаскивает с себя свитер и джинсы. Я смотрю на любимое тело, прикасаюсь, провожу руками по груди, спускаюсь вниз – ладони скользят по шелковой коже, узнают рельеф тела, впитывают жар и самый удивительный из всех ароматов – я вдыхаю запах его тела, пока мои пальцы забираются под тонкую ткань нижнего белья, цепляют и тянут вниз… Мой Максим – сладкий, безумный, беззащитный перед моим руками замирает, потому что они ласкают и любят его. Без стеснения, без ложной скромности – мой Король нелюбимых, я люблю тебя! Каждое движение моих рук ускоряет его дыхание. Он притягивает меня, целует, а я люблю его, и каждое движение моих нежных пальцев приближает его оргазм. Он останавливает меня:
– Не торопись, – выдыхает он, а затем толкает меня на кровать.
Я падаю, смеюсь, а он даже не улыбается – он залезает на кровать, забирается сверху и закрывает собой целый мир. Ни единой живой души, кроме нас – мы единственные люди на всей земле. Самые любящие, самые любимые – единое целое, в коконе любви, такой тонкой, такой прочной и сильной. Мои ноги обвивают его бедра – иди ко мне, забирайся в меня, забирай все, что у меня есть. Тяжесть любимого тела ложится на меня, руки обвивают, пряный и легкий аромат тела обволакивает. Его тело подчиняет, растворяет меня. Я – продолжение его рук. Я – тонкое послевкусие запаха любимого тела. Я – любовь…
Его рука скользит по внутренней стороне бедра. Весь мир – секунды до его прикосновения, и вот пальцы прикасаются к нежной плоти – гладят, ласкают. Мои губы рождают стон – желание горит и пульсирует во мне, ускоряя сердце. Он целует мои губы, но они не отвечают – они пытаются схватить воздух, которого не почти осталось. Мои руки цепляются, тянут его, ноги сжимаются, тело выгибается, льнет к моему любовнику… Его горячая плоть прикасается, ласкает, нажимает…
– Боже мой…
…проникает, заполняя собой меня. Мой стон… Мои губы, мои руки – мое тело ловит оргазм в каждом движении его тела. Пальцы впиваются в его спину, губы рождают сладкие звуки, слова… Его рука скользит по бедру, забирается по ягодицы и притягивает к себе – сильнее, глубже, быстрее… Мое тело сжимается, плавится раскаленным стеклом в его руках и ловит любое движение следом за его бедрами, повторяя ритм его тела, становясь его музыкой. Только не отпускай меня! Я растворяюсь. Я – движение, прикосновение, шепот, стон… Я – любовь. Задыхаюсь, впиваюсь, обвиваю – он живет во мне. Быстро, сильно, сладко. Каждое движение его тела, приближает оргазм – мое тело стонет, сжимается, замирает и… Раскаленная нежность взрывается внутри – я захлебываюсь, задыхаюсь. Чувствую его оргазм, слышу его дыхание, чувствую боль от пальцев, сжимающих мое тело… Хочу вобрать его в себя, забраться в него, поглотить и жить в нем вечно. Любовь разливается по нашим венам – мы единое, мы чувствуем одинаково. И слов не нужно – я чувствую его любовь внутри.
В тишине, в сладком одиночестве, мы целуем друг друга, наши руки ненасытны, жадны, а тела так близки, что сливаются воедино – где начинается он, где заканчиваюсь я, уже не имеет значения. Мое тело – наш храм. Мгновения, когда в близости нет физического. Я прошу:
– Останься со мной. Прошу тебя не оставляй меня!
Он говорит:
– Все будет хорошо…
Он ускользает, тает, растворяется. Я хватаюсь за него, я впиваюсь в гибкую, жилистую шею – мои ногти оставляют алые борозды. Я проклинаю свои кошмары, кричу или плачу, я умоляю и торгуюсь, я ловлю его…
***
Рука ложится на спину девушки: ладонь медленно скользит по лопатке, смещается к центру и пальцы медленно спускаются вниз по впадине позвоночника, подушечками пальцев отмеривая бугорки позвонков – один, два, три…
Девушка просыпается: она открывает глаза, отрывает голову от подушки и оборачивается – заспанное личико Вики озаряет узнавание:
– Ну, наконец-то… – недовольно бубнит она.
Она поднимается и садится на кровати, трет ручками заспанное лицо. Все это время он молчаливо наблюдает за её движениями: его глаза смотрят, как изящные кисти рук складываются ковшиком, чтобы прикрыть зевающий ротик, наслаждаются трепетанием длинных ресниц, пытающихся смахнуть с себя сон.
– Нам пора, – говорит он.
Вика смотрит на него:
– Ты мне поесть привез?
Он кивает:
– Будет много еды.
– Слава Богу… – бубнит девушка и слезает с кровати.
***
Белка говорит:
– Ну и зачем ты это сделал?
Псих ничего не отвечает. Псих громко и быстро сопит, исподлобья смотрит на Белку и молчит. Белка в деланном недоумении разводит руками, мол «ну вот зачем ты так?», а затем подтверждает жест словами:
– Я старался, старался…