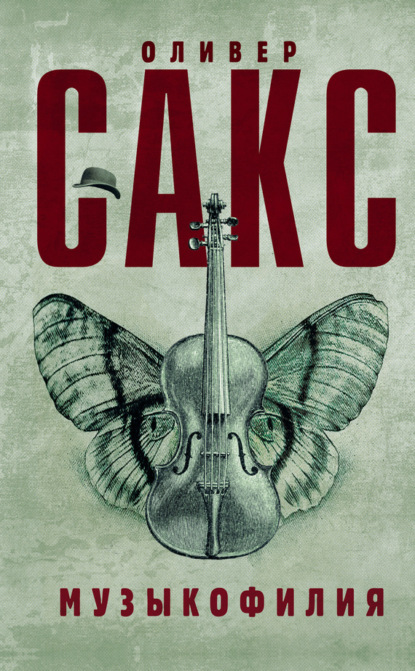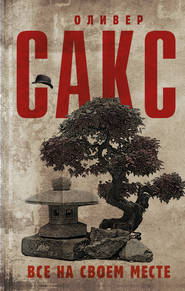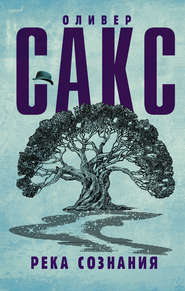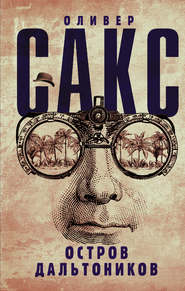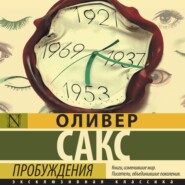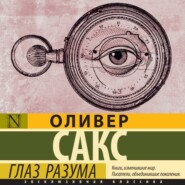По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыкофилия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Музыкофилия
Оливер Сакс
Шляпа Оливера Сакса
Что такое идеальный слух? Дар или патология? Чем гениальность Чайковского отличается от гениальности Вагнера? Чем обусловлена удивительная любовь к музыке людей с синдромом Вильямса и почему страдающие «амузией», напротив, воспринимают ее как невыносимое нагромождение звуков? Какие изменения произошли в сознании человека, который, выжив после удара молнии, неожиданно для всех и прежде всего для самого себя стал горячим поклонником Шопена и даже выучился играть на фортепьяно для того, чтобы иметь возможность исполнять его произведения?
Оливер Сакс
Музыкофилия
Oliver Sacks
MUSICOPHILIA
Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
Серия «Шляпа Оливера Сакса»
© Oliver Sacks, 2007
© Перевод. А. Анваер, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
* * *
Посвящается
Оррину Девински,
Ральфу Зигелю
и Конни Томайно
Предисловие
Какое странное зрелище – наблюдать целый биологический вид – миллиарды человеческих существ, – играющий и слушающий бессмысленные тональные сочетания, всерьез отдающий значительную часть своего времени предмету, который они называют «музыкой». По крайней мере, эта особенность рода человеческого сильно озадачила интеллектуальных инопланетян, Сверхправителей из романа Артура Кларка «Конец детства». Любопытство заставило их высадиться и посетить концерт. Они вежливо слушают музыку, по окончании концерта поздравляют композитора с его «величайшим шедевром», но в действительности сама музыка остается для них совершенно невразумительной. Пришельцы не могут понять, что происходит с человеческими существами, когда они слушают или сочиняют музыку, потому что с ними самими не происходит ровным счетом ничего. Они сами как вид лишены музыки.
Мы можем вообразить Сверхправителей, которые на своих кораблях рассуждают об услышанном. Они будут вынуждены признать, что эта штука, называемая «музыкой», каким-то образом (и очень сильно) влияет на людей, составляет значимую часть человеческой жизни. Тем не менее в музыке нет рациональных понятий, она не предлагает ничего конкретного; мало того, в ней нет образов, символов и прочего языкового материала. Она не имеет представляющей силы. Она, в конце концов, никак не соотносится с миром.
На Земле редко, но встречаются люди, которые, подобно Сверхправителям, лишены нервного аппарата, позволяющего оценивать тональность и мелодичность. Но все же в отношении подавляющего большинства из нас музыка обладает великой силой, не важно, считаем мы себя особенно «музыкальными» или нет. Эта склонность к музыке проявляется в самом раннем детстве, она характерна для всех без исключения культур и, вероятно, восходит к временам зарождения нашего биологического вида. Такая «музыкофилия» органично присуща человеческой природе. Эту склонность можно развить или отшлифовать в условиях нашей культуры, ее можно довести до совершенства дарованиями или слабостями, каковыми мы обладаем как отдельные индивиды, – но сама она располагается в таких глубинах нашего существа, что мы можем считать ее врожденной, тем, что Э. О. Вильсон называет «биофилией», нашим чувством к живым вещам. (Возможно, музыкофилия есть форма биофилии, так как саму музыку мы воспринимаем как почти живое существо.)
Учитывая очевидное сходство между музыкой и языком, мы не должны удивляться идущим вот уже два столетия дебатам относительно того, развивались ли эти феномены совместно или независимо, и если верно последнее, то что появилось раньше. Дарвин считал, что «музыкальные тоны и ритмы использовались нашими полудикими предками в периоды брачных игр и ухаживаний, когда животные разных видов возбуждаются не только любовью, но и такими сильными страстями, как ревность, соперничество и триумф», а речь возникла вторично, из первичных музыкальных тональностей. Современник Дарвина, Герберт Спенсер, придерживался противоположного мнения, считая, что музыка возникла из каденций эмоционально насыщенной речи. Руссо, бывший композитором в той же мере, что и писателем, интуитивно чувствовал, что и то и другое возникло одновременно в виде певучей речи, и только впоследствии музыка и речь разошлись. Вильям Джеймс рассматривал музыку как «случайное бытие… случайность, обусловленную обладанием органом слуха». Уже в наши дни Стивен Пинкер выразился куда более впечатляюще: «Какая польза (вопрошает он, подобно Сверхправителям) тратить время и силы на извлечение этих звонких звуков? …Во всем, что касается биологической целесообразности и эффективности, музыка бесполезна… Она может исчезнуть из нашей жизни, и наш образ жизни останется практически неизменным». Но, однако, есть все основания полагать, что мы обладаем заложенным в нас музыкальным инстинктом, как обладаем инстинктом языка.
Мы, люди, являемся музыкальным биологическим видом не в меньшей степени, чем видом лингвистическим. Этот феномен выступает во множестве разнообразных форм. Все мы (за очень редким исключением) способны воспринимать музыку, воспринимать тональность, тембр, музыкальные интервалы, мелодические контуры, гармонию и (вероятно, это самое элементарное) ритм. Мы интегрируем все эти восприятия и «конструируем» в своем сознании музыку, пользуясь для этого различными участками головного мозга. К этому – по большей части подсознательному – структурному восприятию музыки часто добавляется мощная и глубокая эмоциональная реакция. «Невыразимую глубину музыки, – писал Шопенгауэр, – легко постичь, но невозможно объяснить благодаря тому факту, что она воспроизводит все эмоции нашей самой сокровенной сущности, но не соотносится с действительностью и отчуждена от ее непосредственной боли… Музыка выражает лишь квинтэссенцию жизни и ее событий, но никогда саму жизнь и ее события».
Слушание музыки – это не только слуховой или эмоциональный феномен, но и феномен двигательный. «Мы слушаем музыку всеми нашими мышцами», – писал Ницше. Мы отводим время музыке, отводим непроизвольно, даже если и не слушаем ее целенаправленно. Наша мимика, телодвижения отражают мелодическое повествование, мысли и чувства, которые оно пробуждает в нас.
Многое из того, что происходит при восприятии звучащей музыки, имеет место и при «мысленном ее воспроизведении». Воображение музыки даже относительно немузыкальными людьми отличается не только верным следованием мелодии и чувству оригинала, но и правильной тональностью и темпом. Основание этого – необычайная цепкость музыкальной памяти, благодаря которой то, что мы слышали в раннем детстве, отпечатывается в нашем мозгу на всю оставшуюся жизнь. Наш слух, наша нервная система в самом деле исключительно сильно настроены на музыку. Мы до сих пор не знаем, в какой степени восприятие музыки и ее воспроизведение есть результат характеристических свойств самой музыки: сложных звуковых рисунков, вплетенных в ход времени, логики, движения, нерушимой последовательности, настоятельного ритма и повторения, таинственной способности воплощать эмоции и волю и в какой степени – особых резонансов, синхронизации, осцилляции, взаимного возбуждения или формирования обратных связей в неимоверно сложных нейронных сетях.
Но этот чудесный механизм – возможно, благодаря своей сложности и высочайшей степени развития – подвержен различным нарушениям, избыточности и срывам. Способность воспринимать (или воображать) музыку может нарушаться при некоторых поражениях головного мозга; существует множество таких видов амузии. С другой стороны, музыкальное воображение может стать избыточным и неуправляемым, что приводит к бесконечному повторению навязчивых мелодий или даже к музыкальным галлюцинациям. У некоторых людей музыка может провоцировать эпилептические припадки. Существуют также особые неврологические нарушения, «профессиональные расстройства» у музыкантов. У некоторых людей разрывается нормальная связь интеллектуального и эмоционального восприятия музыки. Одни воспринимают музыку очень отчетливо, могут ее проанализировать, но она оставляет их совершенно равнодушными; и, наоборот, слушателя может охватить страстное переживание при полном непонимании того, что он, собственно говоря, слышит. Некоторые люди – и их на удивление много, – слушая музыку, «видят» цвета, испытывают разнообразные вкусовые, тактильные и обонятельные ощущения. Но это, скорее, дар, нежели болезненный симптом.
Вильям Джеймс говорил о нашей «подверженности музыке», и действительно, так как музыка может воздействовать на все наше существо – умиротворять, воодушевлять, внушать покой, приводить в трепет, настраивать на работу или игру, – она же может оказывать мощное лечебное воздействие на больных с самыми разнообразными неврологическими расстройствами. Такие больные могут мощно и специфично реагировать на музыку (иногда и на другие стимулы). У некоторых из них имеют место обширные корковые расстройства как следствие инсультов, болезни Альцгеймера или других причин деменции; у иных больных наблюдаются специфические корковые синдромы – утрата речи или двигательной функции, амнезия или синдром лобной доли. Некоторые подверженные действию музыки больные страдают задержкой умственного развития или аутизмом. Третья категория больных страдает подкорковыми расстройствами типа паркинсонизма или других двигательных поражений. Все эти состояния, как и многие другие, могут позитивно отвечать на музыку и музыкальную терапию.
Впервые побуждение написать о музыке появилось у меня в 1966 году, когда я наблюдал поразительно глубокое воздействие ее на больных паркинсонизмом, которых я описал в «Пробуждениях». С тех пор музыка властно и гораздо в большей степени, чем я мог себе вообразить, снова и снова привлекала к себе мое внимание, демонстрируя свое влияние практически на все аспекты деятельности мозга – да и самой жизни.
«Музыка» стала ключевым словом, которое я всякий раз искал в предметном указателе каждого нового руководства по неврологии. Но мне не удавалось найти ничего существенного до выхода в свет в 1977 году книги Макдональда Кричли и Р. А. Хэнсона «Музыка и мозг», изобиловавшей историческими и клиническими примерами. Вероятно, одной из причин редкости «музыкальных» историй болезни является тот факт, что врачи не спрашивают своих пациентов о нарушениях восприятия музыки, в то время как нарушения продукции или восприятия речи выявляются при первом же обращении. Другой причиной такого невнимания является, на мой взгляд, тот факт, что неврологи стремятся не только описать клинический феномен, но и объяснить его, а неврологической науки о восприятии музыки до восьмидесятых годов просто не существовало. Положение разительно изменилось за два последних десятилетия, когда у нас появилась возможность наблюдать живой мозг в процессе прослушивания, воображения и даже сочинения музыки. Нарастает количество научной литературы о неврологических основах музыкального восприятия и воображения музыки, а также о сложных и зачастую причудливых нарушениях, к которым склонны восприятие и воображение. Эти новые знания представляются волнующими сверх всякой меры, но при этом существует определенная опасность того, что будет утрачена способность к простому наблюдению, что клинические описания станут поверхностными и будет потерян интерес к богатству человеческого, гуманистического контекста.
Ясно, что важны оба подхода, сочетание «старомодного» наблюдения и описания с новейшими технологическими исследованиями, и я попытался совместить здесь и то и другое. Но, прежде всего, я изо всех сил старался слушать своих пациентов и вникать в предмет их рассказов, чтобы прочувствовать их переживание. Это стремление и составляет суть предлагаемой читателю книги.
Часть I
Преследуемые музыкой
1
Гром среди ясного неба:
внезапная музыкофилия
Тони Чикориа в свои сорок два был крепким тренированным мужчиной. Бывший капитан студенческой футбольной команды стал уважаемым хирургом-ортопедом в небольшом городке на севере штата Нью-Йорк. Драматические события разыгрались в ветреный и прохладный осенний день, когда Тони с семьей отдыхал в кемпинге на берегу озера. Погода стояла ясная, но на горизонте виднелись серые свинцовые облака. Похоже, собирался дождь.
Тони вышел на улицу к телефону-автомату и позвонил матери (дело было в 1994 году, до наступления эры мобильных телефонов). Тони до сих пор в мельчайших деталях помнит, что произошло дальше. «Я разговаривал по телефону. Начал накрапывать дождь, в отдалении слышались раскаты грома. Мать повесила трубку. Я находился приблизительно в одном футе от аппарата, когда из телефона вырвалась вспышка яркого синего света и ударила меня в лицо. В следующий миг я отлетел назад. Потом… – Тони несколько секунд колебался, прежде чем продолжить, – я полетел лицом вперед. Я был ошеломлен и сбит с толку. Оглядевшись, я увидел собственное тело, распростертое на земле. О черт, я, кажется, мертв, сказал я себе. Над моим телом склонились какие-то люди. Женщина, ожидавшая своей очереди поговорить по телефону, стояла рядом на коленях и делала непрямой массаж сердца… Сам же я парил над всей этой суматохой, будучи в полном сознании. Я видел своих детей, они были в полном порядке. Потом меня окутало какое-то сине-белое свечение и охватило чувство небывалого довольства и покоя. Я заново переживал все взлеты и падения своей жизни. При этом я не испытывал никаких эмоций – это была чистая мысль, чистый экстаз. Неведомая сила неумолимо возносила меня вверх. Я никогда в жизни не испытывал такого блаженства, подумалось мне. БАЦ! Я вернулся».
Доктор Чикориа понял, что вернулся в свое тело, потому что пришла боль. Боль от ожога лица и левой стопы – в местах входа и выхода электрического тока. Тогда он понял, что боль может быть только телесной. Ему хотелось одного – снова вернуться в блаженное состояние легкости. Он хотел сказать женщине, чтобы она прекратила массаж, но было уже поздно – Тони снова был среди живых. Окончательно придя в себя и обретя дар речи, он сказал: «Достаточно, со мной все нормально. Я сам врач». Женщина, которая оказалась медсестрой из отделения интенсивной терапии, ответила: «Пару минут назад вы им уже не были!»
Приехавшие полицейские хотели вызвать «Скорую помощь», но Тони, все еще находившийся в полубредовом состоянии, отказался. Полицейские отвезли его домой («путь показался мне страшно долгим»), и Чикориа вызвал врача-кардиолога. Кардиолог сказал, что у Тони была кратковременная остановка сердца, осмотрел его, но не выявил никаких клинических или электрокардиографических отклонений. «В таких случаях люди либо умирают, либо остаются в живых» – таково было резюме. Кардиолог считал, что происшествие обойдется без последствий.
Чикориа проконсультировался также и у невролога – так как чувствовал сильную вялость (что само по себе было для него очень необычно) и отмечал нарушения памяти. Тони обнаружил, что забыл имена людей, которых хорошо знал. Он прошел неврологическое обследование, ему сделали ЭЭГ и МРТ. Никаких отклонений.
Спустя пару недель, когда силы его полностью восстановились, доктор Чикориа вышел на работу. Расстройства памяти в какой-то мере продолжали беспокоить – Тони иногда не мог вспомнить названия болезней или рутинных хирургических процедур, – но при этом безошибочно их выполнял. В течение следующих двух недель память восстановилась полностью, и Тони казалось, что этим инцидент и исчерпан.
То, что произошло потом, продолжает до глубины души изумлять Тони даже сегодня, двенадцать лет спустя. Жизнь вошла в свою привычную колею, когда внезапно, за два или три дня, у него появилась «ненасытная тяга к прослушиванию фортепьянной музыки». Эта тяга совершенно не вязалась с опытом его жизни. В детстве его пытались научить играть на пианино, он даже взял несколько уроков, но не проявил ни малейшего интереса к музыке. В доме Тони никогда не было фортепьяно. В обиходе он всегда предпочитал рок-музыку.
Вспыхнувшее увлечение фортепьянной музыкой было необычайно сильным. Тони начал покупать записи и стал страстным почитателем Шопена в исполнении Владимира Ашкенази. Он слушал «Военный полонез», этюд «Зимний ветер», «Этюд на черных клавишах», Полонез ля-бемоль мажор, Скерцо си-бемоль минор. «Они нравились мне все без исключения, – говорит Тони. – У меня возникло непреодолимое желание их сыграть, и я заказал ноты. Как раз в это же время наша няня спросила, нельзя ли на время перевезти в наш дом ее пианино. Именно тогда, когда он был мне так нужен, у нас появился чудесный маленький инструмент. Он подошел мне идеально. Тогда я едва умел разбирать ноты и с трудом нажимал нужные клавиши, но я начал упорно учиться». С тех пор как он играл на пианино в последний раз, прошло больше тридцати лет, и пальцы не желали слушаться.
Именно тогда, на фоне вспыхнувшего увлечения фортепьянной музыкой, Тони Чикориа начал слышать музыку у себя в голове.
«В первый раз, – вспоминал он, – это случилось во сне. Я был во фраке и, сидя у рояля на сцене, играл музыку собственного сочинения. Когда я проснулся, музыка продолжала звучать у меня в голове. Я вскочил с постели и попытался ее записать. Но я практически не знал тогда нотной грамоты и правил нотации для записи звучавшей музыки». Попытка оказалась неудачной. Тони никогда прежде не приходилось записывать музыку. Но каждый раз, когда он усаживался за пианино, чтобы играть Шопена, его собственная музыка «начинала звучать в голове, совершенно захлестывая все его существо. Она была повсюду».
Я не знал, что мне делать с этой музыкой, безапелляционно подчинившей Тони своей власти. Может быть, это были музыкальные галлюцинации? На это доктор Чикориа сказал, что здесь больше подошло бы слово «вдохновение». Музыка присутствовала где-то внутри – или вовне, – и единственное, что ему оставалось, – это открыть шлюзы и впустить ее. «Это похоже на настройку радиоприемника. Стоит мне открыться, как является музыка. Мне хочется вслед за Моцартом сказать, что она снисходит ко мне с небес».
Музыка его была нескончаема. «Этот источник не иссякает, – продолжал Тони. – Иногда мне просто приходится выключать приемник».
Теперь ему приходилось бороться не только с нотами Шопена; он во что бы то ни стало должен был научиться играть на клавишах свою музыку, записывать ее нотами. «Это была тяжкая борьба, – говорил он. – Я вставал в четыре утра и играл до ухода на работу. Приходя домой, я снова садился за пианино и проводил за ним весь вечер. Жена была страшно недовольна. Я стал одержимым».
На третий месяц после удара молнии Тони Чикориа, бывший до этого общительным человеком и примерным семьянином и не проявлявший ни малейшего интереса к музыке, стал вдохновенным музыкантом, одержимым, для которого, помимо музыки, ничего больше не существовало. До него стало доходить, что, возможно, ему сохранили жизнь для чего-то очень важного. «Я начал думать, – говорил он, – что единственная причина, по которой я выжил, – это музыка». Я спросил, был ли Тони религиозен до удара молнии. Он ответил, что воспитывался в католической семье, но никогда не был особенно ревностным прихожанином. Вера его была не вполне ортодоксальной: например, он верил в перевоплощения.
Он и сам, полагал Тони, пережил своего рода перевоплощение – преобразился и получил особый дар, миссию «настроиться», как он метафорически выразился, на музыку «с небес». Часто она являлась в виде вихря нот, между которыми не было никаких пробелов, никаких разрывов, и он должен был придать этому вихрю форму и лад. (Когда Тони рассказывал об этом, мне вспомнился Кэдмон, англосаксонский поэт седьмого века, неграмотный пастух, который, как говорят, получил однажды ночью во сне дар слагать песни – и остаток жизни прославлял Господа и его творение в гимнах и стихах.)
Оливер Сакс
Шляпа Оливера Сакса
Что такое идеальный слух? Дар или патология? Чем гениальность Чайковского отличается от гениальности Вагнера? Чем обусловлена удивительная любовь к музыке людей с синдромом Вильямса и почему страдающие «амузией», напротив, воспринимают ее как невыносимое нагромождение звуков? Какие изменения произошли в сознании человека, который, выжив после удара молнии, неожиданно для всех и прежде всего для самого себя стал горячим поклонником Шопена и даже выучился играть на фортепьяно для того, чтобы иметь возможность исполнять его произведения?
Оливер Сакс
Музыкофилия
Oliver Sacks
MUSICOPHILIA
Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
Серия «Шляпа Оливера Сакса»
© Oliver Sacks, 2007
© Перевод. А. Анваер, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
* * *
Посвящается
Оррину Девински,
Ральфу Зигелю
и Конни Томайно
Предисловие
Какое странное зрелище – наблюдать целый биологический вид – миллиарды человеческих существ, – играющий и слушающий бессмысленные тональные сочетания, всерьез отдающий значительную часть своего времени предмету, который они называют «музыкой». По крайней мере, эта особенность рода человеческого сильно озадачила интеллектуальных инопланетян, Сверхправителей из романа Артура Кларка «Конец детства». Любопытство заставило их высадиться и посетить концерт. Они вежливо слушают музыку, по окончании концерта поздравляют композитора с его «величайшим шедевром», но в действительности сама музыка остается для них совершенно невразумительной. Пришельцы не могут понять, что происходит с человеческими существами, когда они слушают или сочиняют музыку, потому что с ними самими не происходит ровным счетом ничего. Они сами как вид лишены музыки.
Мы можем вообразить Сверхправителей, которые на своих кораблях рассуждают об услышанном. Они будут вынуждены признать, что эта штука, называемая «музыкой», каким-то образом (и очень сильно) влияет на людей, составляет значимую часть человеческой жизни. Тем не менее в музыке нет рациональных понятий, она не предлагает ничего конкретного; мало того, в ней нет образов, символов и прочего языкового материала. Она не имеет представляющей силы. Она, в конце концов, никак не соотносится с миром.
На Земле редко, но встречаются люди, которые, подобно Сверхправителям, лишены нервного аппарата, позволяющего оценивать тональность и мелодичность. Но все же в отношении подавляющего большинства из нас музыка обладает великой силой, не важно, считаем мы себя особенно «музыкальными» или нет. Эта склонность к музыке проявляется в самом раннем детстве, она характерна для всех без исключения культур и, вероятно, восходит к временам зарождения нашего биологического вида. Такая «музыкофилия» органично присуща человеческой природе. Эту склонность можно развить или отшлифовать в условиях нашей культуры, ее можно довести до совершенства дарованиями или слабостями, каковыми мы обладаем как отдельные индивиды, – но сама она располагается в таких глубинах нашего существа, что мы можем считать ее врожденной, тем, что Э. О. Вильсон называет «биофилией», нашим чувством к живым вещам. (Возможно, музыкофилия есть форма биофилии, так как саму музыку мы воспринимаем как почти живое существо.)
Учитывая очевидное сходство между музыкой и языком, мы не должны удивляться идущим вот уже два столетия дебатам относительно того, развивались ли эти феномены совместно или независимо, и если верно последнее, то что появилось раньше. Дарвин считал, что «музыкальные тоны и ритмы использовались нашими полудикими предками в периоды брачных игр и ухаживаний, когда животные разных видов возбуждаются не только любовью, но и такими сильными страстями, как ревность, соперничество и триумф», а речь возникла вторично, из первичных музыкальных тональностей. Современник Дарвина, Герберт Спенсер, придерживался противоположного мнения, считая, что музыка возникла из каденций эмоционально насыщенной речи. Руссо, бывший композитором в той же мере, что и писателем, интуитивно чувствовал, что и то и другое возникло одновременно в виде певучей речи, и только впоследствии музыка и речь разошлись. Вильям Джеймс рассматривал музыку как «случайное бытие… случайность, обусловленную обладанием органом слуха». Уже в наши дни Стивен Пинкер выразился куда более впечатляюще: «Какая польза (вопрошает он, подобно Сверхправителям) тратить время и силы на извлечение этих звонких звуков? …Во всем, что касается биологической целесообразности и эффективности, музыка бесполезна… Она может исчезнуть из нашей жизни, и наш образ жизни останется практически неизменным». Но, однако, есть все основания полагать, что мы обладаем заложенным в нас музыкальным инстинктом, как обладаем инстинктом языка.
Мы, люди, являемся музыкальным биологическим видом не в меньшей степени, чем видом лингвистическим. Этот феномен выступает во множестве разнообразных форм. Все мы (за очень редким исключением) способны воспринимать музыку, воспринимать тональность, тембр, музыкальные интервалы, мелодические контуры, гармонию и (вероятно, это самое элементарное) ритм. Мы интегрируем все эти восприятия и «конструируем» в своем сознании музыку, пользуясь для этого различными участками головного мозга. К этому – по большей части подсознательному – структурному восприятию музыки часто добавляется мощная и глубокая эмоциональная реакция. «Невыразимую глубину музыки, – писал Шопенгауэр, – легко постичь, но невозможно объяснить благодаря тому факту, что она воспроизводит все эмоции нашей самой сокровенной сущности, но не соотносится с действительностью и отчуждена от ее непосредственной боли… Музыка выражает лишь квинтэссенцию жизни и ее событий, но никогда саму жизнь и ее события».
Слушание музыки – это не только слуховой или эмоциональный феномен, но и феномен двигательный. «Мы слушаем музыку всеми нашими мышцами», – писал Ницше. Мы отводим время музыке, отводим непроизвольно, даже если и не слушаем ее целенаправленно. Наша мимика, телодвижения отражают мелодическое повествование, мысли и чувства, которые оно пробуждает в нас.
Многое из того, что происходит при восприятии звучащей музыки, имеет место и при «мысленном ее воспроизведении». Воображение музыки даже относительно немузыкальными людьми отличается не только верным следованием мелодии и чувству оригинала, но и правильной тональностью и темпом. Основание этого – необычайная цепкость музыкальной памяти, благодаря которой то, что мы слышали в раннем детстве, отпечатывается в нашем мозгу на всю оставшуюся жизнь. Наш слух, наша нервная система в самом деле исключительно сильно настроены на музыку. Мы до сих пор не знаем, в какой степени восприятие музыки и ее воспроизведение есть результат характеристических свойств самой музыки: сложных звуковых рисунков, вплетенных в ход времени, логики, движения, нерушимой последовательности, настоятельного ритма и повторения, таинственной способности воплощать эмоции и волю и в какой степени – особых резонансов, синхронизации, осцилляции, взаимного возбуждения или формирования обратных связей в неимоверно сложных нейронных сетях.
Но этот чудесный механизм – возможно, благодаря своей сложности и высочайшей степени развития – подвержен различным нарушениям, избыточности и срывам. Способность воспринимать (или воображать) музыку может нарушаться при некоторых поражениях головного мозга; существует множество таких видов амузии. С другой стороны, музыкальное воображение может стать избыточным и неуправляемым, что приводит к бесконечному повторению навязчивых мелодий или даже к музыкальным галлюцинациям. У некоторых людей музыка может провоцировать эпилептические припадки. Существуют также особые неврологические нарушения, «профессиональные расстройства» у музыкантов. У некоторых людей разрывается нормальная связь интеллектуального и эмоционального восприятия музыки. Одни воспринимают музыку очень отчетливо, могут ее проанализировать, но она оставляет их совершенно равнодушными; и, наоборот, слушателя может охватить страстное переживание при полном непонимании того, что он, собственно говоря, слышит. Некоторые люди – и их на удивление много, – слушая музыку, «видят» цвета, испытывают разнообразные вкусовые, тактильные и обонятельные ощущения. Но это, скорее, дар, нежели болезненный симптом.
Вильям Джеймс говорил о нашей «подверженности музыке», и действительно, так как музыка может воздействовать на все наше существо – умиротворять, воодушевлять, внушать покой, приводить в трепет, настраивать на работу или игру, – она же может оказывать мощное лечебное воздействие на больных с самыми разнообразными неврологическими расстройствами. Такие больные могут мощно и специфично реагировать на музыку (иногда и на другие стимулы). У некоторых из них имеют место обширные корковые расстройства как следствие инсультов, болезни Альцгеймера или других причин деменции; у иных больных наблюдаются специфические корковые синдромы – утрата речи или двигательной функции, амнезия или синдром лобной доли. Некоторые подверженные действию музыки больные страдают задержкой умственного развития или аутизмом. Третья категория больных страдает подкорковыми расстройствами типа паркинсонизма или других двигательных поражений. Все эти состояния, как и многие другие, могут позитивно отвечать на музыку и музыкальную терапию.
Впервые побуждение написать о музыке появилось у меня в 1966 году, когда я наблюдал поразительно глубокое воздействие ее на больных паркинсонизмом, которых я описал в «Пробуждениях». С тех пор музыка властно и гораздо в большей степени, чем я мог себе вообразить, снова и снова привлекала к себе мое внимание, демонстрируя свое влияние практически на все аспекты деятельности мозга – да и самой жизни.
«Музыка» стала ключевым словом, которое я всякий раз искал в предметном указателе каждого нового руководства по неврологии. Но мне не удавалось найти ничего существенного до выхода в свет в 1977 году книги Макдональда Кричли и Р. А. Хэнсона «Музыка и мозг», изобиловавшей историческими и клиническими примерами. Вероятно, одной из причин редкости «музыкальных» историй болезни является тот факт, что врачи не спрашивают своих пациентов о нарушениях восприятия музыки, в то время как нарушения продукции или восприятия речи выявляются при первом же обращении. Другой причиной такого невнимания является, на мой взгляд, тот факт, что неврологи стремятся не только описать клинический феномен, но и объяснить его, а неврологической науки о восприятии музыки до восьмидесятых годов просто не существовало. Положение разительно изменилось за два последних десятилетия, когда у нас появилась возможность наблюдать живой мозг в процессе прослушивания, воображения и даже сочинения музыки. Нарастает количество научной литературы о неврологических основах музыкального восприятия и воображения музыки, а также о сложных и зачастую причудливых нарушениях, к которым склонны восприятие и воображение. Эти новые знания представляются волнующими сверх всякой меры, но при этом существует определенная опасность того, что будет утрачена способность к простому наблюдению, что клинические описания станут поверхностными и будет потерян интерес к богатству человеческого, гуманистического контекста.
Ясно, что важны оба подхода, сочетание «старомодного» наблюдения и описания с новейшими технологическими исследованиями, и я попытался совместить здесь и то и другое. Но, прежде всего, я изо всех сил старался слушать своих пациентов и вникать в предмет их рассказов, чтобы прочувствовать их переживание. Это стремление и составляет суть предлагаемой читателю книги.
Часть I
Преследуемые музыкой
1
Гром среди ясного неба:
внезапная музыкофилия
Тони Чикориа в свои сорок два был крепким тренированным мужчиной. Бывший капитан студенческой футбольной команды стал уважаемым хирургом-ортопедом в небольшом городке на севере штата Нью-Йорк. Драматические события разыгрались в ветреный и прохладный осенний день, когда Тони с семьей отдыхал в кемпинге на берегу озера. Погода стояла ясная, но на горизонте виднелись серые свинцовые облака. Похоже, собирался дождь.
Тони вышел на улицу к телефону-автомату и позвонил матери (дело было в 1994 году, до наступления эры мобильных телефонов). Тони до сих пор в мельчайших деталях помнит, что произошло дальше. «Я разговаривал по телефону. Начал накрапывать дождь, в отдалении слышались раскаты грома. Мать повесила трубку. Я находился приблизительно в одном футе от аппарата, когда из телефона вырвалась вспышка яркого синего света и ударила меня в лицо. В следующий миг я отлетел назад. Потом… – Тони несколько секунд колебался, прежде чем продолжить, – я полетел лицом вперед. Я был ошеломлен и сбит с толку. Оглядевшись, я увидел собственное тело, распростертое на земле. О черт, я, кажется, мертв, сказал я себе. Над моим телом склонились какие-то люди. Женщина, ожидавшая своей очереди поговорить по телефону, стояла рядом на коленях и делала непрямой массаж сердца… Сам же я парил над всей этой суматохой, будучи в полном сознании. Я видел своих детей, они были в полном порядке. Потом меня окутало какое-то сине-белое свечение и охватило чувство небывалого довольства и покоя. Я заново переживал все взлеты и падения своей жизни. При этом я не испытывал никаких эмоций – это была чистая мысль, чистый экстаз. Неведомая сила неумолимо возносила меня вверх. Я никогда в жизни не испытывал такого блаженства, подумалось мне. БАЦ! Я вернулся».
Доктор Чикориа понял, что вернулся в свое тело, потому что пришла боль. Боль от ожога лица и левой стопы – в местах входа и выхода электрического тока. Тогда он понял, что боль может быть только телесной. Ему хотелось одного – снова вернуться в блаженное состояние легкости. Он хотел сказать женщине, чтобы она прекратила массаж, но было уже поздно – Тони снова был среди живых. Окончательно придя в себя и обретя дар речи, он сказал: «Достаточно, со мной все нормально. Я сам врач». Женщина, которая оказалась медсестрой из отделения интенсивной терапии, ответила: «Пару минут назад вы им уже не были!»
Приехавшие полицейские хотели вызвать «Скорую помощь», но Тони, все еще находившийся в полубредовом состоянии, отказался. Полицейские отвезли его домой («путь показался мне страшно долгим»), и Чикориа вызвал врача-кардиолога. Кардиолог сказал, что у Тони была кратковременная остановка сердца, осмотрел его, но не выявил никаких клинических или электрокардиографических отклонений. «В таких случаях люди либо умирают, либо остаются в живых» – таково было резюме. Кардиолог считал, что происшествие обойдется без последствий.
Чикориа проконсультировался также и у невролога – так как чувствовал сильную вялость (что само по себе было для него очень необычно) и отмечал нарушения памяти. Тони обнаружил, что забыл имена людей, которых хорошо знал. Он прошел неврологическое обследование, ему сделали ЭЭГ и МРТ. Никаких отклонений.
Спустя пару недель, когда силы его полностью восстановились, доктор Чикориа вышел на работу. Расстройства памяти в какой-то мере продолжали беспокоить – Тони иногда не мог вспомнить названия болезней или рутинных хирургических процедур, – но при этом безошибочно их выполнял. В течение следующих двух недель память восстановилась полностью, и Тони казалось, что этим инцидент и исчерпан.
То, что произошло потом, продолжает до глубины души изумлять Тони даже сегодня, двенадцать лет спустя. Жизнь вошла в свою привычную колею, когда внезапно, за два или три дня, у него появилась «ненасытная тяга к прослушиванию фортепьянной музыки». Эта тяга совершенно не вязалась с опытом его жизни. В детстве его пытались научить играть на пианино, он даже взял несколько уроков, но не проявил ни малейшего интереса к музыке. В доме Тони никогда не было фортепьяно. В обиходе он всегда предпочитал рок-музыку.
Вспыхнувшее увлечение фортепьянной музыкой было необычайно сильным. Тони начал покупать записи и стал страстным почитателем Шопена в исполнении Владимира Ашкенази. Он слушал «Военный полонез», этюд «Зимний ветер», «Этюд на черных клавишах», Полонез ля-бемоль мажор, Скерцо си-бемоль минор. «Они нравились мне все без исключения, – говорит Тони. – У меня возникло непреодолимое желание их сыграть, и я заказал ноты. Как раз в это же время наша няня спросила, нельзя ли на время перевезти в наш дом ее пианино. Именно тогда, когда он был мне так нужен, у нас появился чудесный маленький инструмент. Он подошел мне идеально. Тогда я едва умел разбирать ноты и с трудом нажимал нужные клавиши, но я начал упорно учиться». С тех пор как он играл на пианино в последний раз, прошло больше тридцати лет, и пальцы не желали слушаться.
Именно тогда, на фоне вспыхнувшего увлечения фортепьянной музыкой, Тони Чикориа начал слышать музыку у себя в голове.
«В первый раз, – вспоминал он, – это случилось во сне. Я был во фраке и, сидя у рояля на сцене, играл музыку собственного сочинения. Когда я проснулся, музыка продолжала звучать у меня в голове. Я вскочил с постели и попытался ее записать. Но я практически не знал тогда нотной грамоты и правил нотации для записи звучавшей музыки». Попытка оказалась неудачной. Тони никогда прежде не приходилось записывать музыку. Но каждый раз, когда он усаживался за пианино, чтобы играть Шопена, его собственная музыка «начинала звучать в голове, совершенно захлестывая все его существо. Она была повсюду».
Я не знал, что мне делать с этой музыкой, безапелляционно подчинившей Тони своей власти. Может быть, это были музыкальные галлюцинации? На это доктор Чикориа сказал, что здесь больше подошло бы слово «вдохновение». Музыка присутствовала где-то внутри – или вовне, – и единственное, что ему оставалось, – это открыть шлюзы и впустить ее. «Это похоже на настройку радиоприемника. Стоит мне открыться, как является музыка. Мне хочется вслед за Моцартом сказать, что она снисходит ко мне с небес».
Музыка его была нескончаема. «Этот источник не иссякает, – продолжал Тони. – Иногда мне просто приходится выключать приемник».
Теперь ему приходилось бороться не только с нотами Шопена; он во что бы то ни стало должен был научиться играть на клавишах свою музыку, записывать ее нотами. «Это была тяжкая борьба, – говорил он. – Я вставал в четыре утра и играл до ухода на работу. Приходя домой, я снова садился за пианино и проводил за ним весь вечер. Жена была страшно недовольна. Я стал одержимым».
На третий месяц после удара молнии Тони Чикориа, бывший до этого общительным человеком и примерным семьянином и не проявлявший ни малейшего интереса к музыке, стал вдохновенным музыкантом, одержимым, для которого, помимо музыки, ничего больше не существовало. До него стало доходить, что, возможно, ему сохранили жизнь для чего-то очень важного. «Я начал думать, – говорил он, – что единственная причина, по которой я выжил, – это музыка». Я спросил, был ли Тони религиозен до удара молнии. Он ответил, что воспитывался в католической семье, но никогда не был особенно ревностным прихожанином. Вера его была не вполне ортодоксальной: например, он верил в перевоплощения.
Он и сам, полагал Тони, пережил своего рода перевоплощение – преобразился и получил особый дар, миссию «настроиться», как он метафорически выразился, на музыку «с небес». Часто она являлась в виде вихря нот, между которыми не было никаких пробелов, никаких разрывов, и он должен был придать этому вихрю форму и лад. (Когда Тони рассказывал об этом, мне вспомнился Кэдмон, англосаксонский поэт седьмого века, неграмотный пастух, который, как говорят, получил однажды ночью во сне дар слагать песни – и остаток жизни прославлял Господа и его творение в гимнах и стихах.)