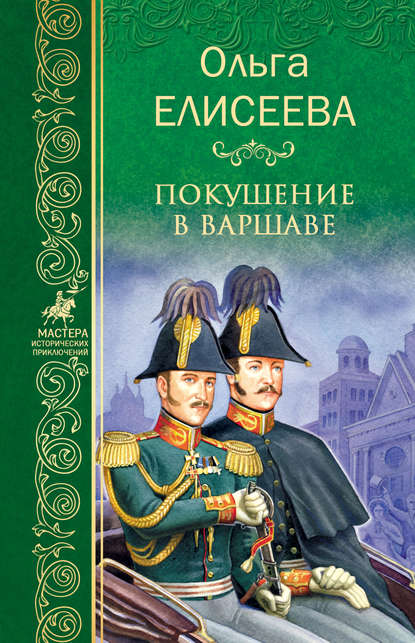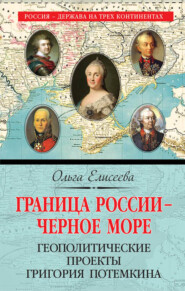По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Покушение в Варшаве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Таким монархом не может быть русский царь по причинам Вам хорошо известным. Порядки, установленные им на завоеванных землях, совершенно противоречат просвещению и законности. Его коронация в Варшаве лишь осложнит дело. В то время как отказ от нее, добровольный или вынужденный, станет не только первым шагом на пути грядущего освобождения Ваших соотечественников, но и поможет сдерживанию России от Балкан до Кавказа и Среднего Востока».
Адам улыбнулся. Знает он, на что направлены намеки лорда Абердина. Россия должна остановиться и отдать все уже завоеванное туркам, в этом поможет новый удар со стороны Персии, недаром же зарезали посла. Князь поежился, он знавал господина Грибоедова еще молодым, подающим большие надежды… В этой игре Польша – отвлекающий маневр, не более. Ради кого? Турции, Каджаров? Или самих русских? Чарторыйский был хорошим дипломатом, умел держать свою неприязнь в узде, умел здраво оценивать ситуацию. Сейчас и его соотечественники, и султан, и персы – всего лишь веревки, которыми стараются связать руки главному сопернику. Он же сам остается неизменен.
«Если удастся вызвать ссору между цесаревичем Константином, который фактически правит Вашей страной, и его братом, если последний откажется от идеи коронации, это как нельзя более поспособствует нашим видам, а в самой Польше ободрит патриотов и возродит угасшую было надежду на освобождение».
Знает он, чем можно вызвать гнев Николая и спровоцировать ссору. Этими вот жалобами! Князь Адам взял со стола пачку сегодняшних писем и, открыв нижний ящик, присовокупил их к другим, сходного содержания. Николай по природе справедлив, этого не отнимешь. Если он узнает о вопиющих нарушениях, которые творит его брат, он может не сдержаться. Оба горячи. Наговорят с три короба. Хорошо, если не подерутся.
«Если же после этого по несчастному стечению обстоятельств русский царь покинет мир…» То все подумают, будто ловушку брату подстроил Константин. И придет время справедливо негодовать. «Ваши соотечественники восстанут не как мятежники и нарушители присяги, а как верные подданные, потрясенные бесчеловечием и коварством цесаревича. А вакантный трон в самом Петербурге породит столько неурядиц в нестабильной деспотической стране, что русские надолго будут заняты внутренними распрями и не станут помышлять о делах за своими рубежами».
Вот этими словами лорд Абердин выдавал главную заботу своего кабинета. Как Адам и считал – не о Польше, Турции или Персии. Но в тот момент, когда большие игроки заняты друг другом, у малых появляется шанс. Адам зевнул. Все, о чем его просили из Лондона, он мог устроить. Но с легкими поправками. Чтобы соблюсти собственный интерес.
Глава 7. Цесаревич
Середина апреля. Варшава. Дворец Бельведер
Бельведерский дворец в Варшаве походил сразу на все загородные резиденции под Петербургом. С главного фасада – на Стрельню, где великий князь Константин провел молодые, не столь счастливые годы. Те же высокие полукруглые арки, та же шатровая крыша. На Таврический, где бабка Екатерина доживала последние годы и где второй из внуков застал ее с князем Зубовым, последним фаворитом, какой скандал! Та же распростертость по земле, низкий фундамент, классический портик и широкий двор для карет: к его высочеству на поклон езжают толпы гостей-просителей.
На Павловск – гнездо матери – английским парком с прудом и каналами. Стенами на взгорье, усыпанном то зеленой, то желтой, то красно-бурой листвой дубов и кленов. Только зимой он был отменно нехорош – белый на белом. Во внутренних комнатах тоже все было белым-бело. Любимый цвет Константина. Зачем помпезность? Здесь жить, а не спектакли разыгрывать. Для разнообразия хватит люстр темной бронзы или светло-салатового мрамора на полу, ковров «от моря до моря», т. е. от стены к стене. Таков был его стиль, и женщину цесаревич выбрал под стать – зимнюю, без красок. Но нежную-нежную…
Не было только одной очевидной параллели ни во внешнем облике дворца, ни в убранстве залов. Михайловский замок, где погиб император Павел, остался как бы за рамками такого тихого, такого семейного Бельведера. Никаких подъемных мостов, башен, рвов, ничего готического, рыцарственного и предательского одновременно. Константин хорошо помнил, как роковой мартовской ночью его приволокли в покои рыдающего брата Александра, как им распоряжались пьяные офицеры-заговорщики и как он решил, что всю их семью убьют. Ничего похожего не было и не могло быть в доме его истинного счастья! Там, где милая Жанетта безвольными с виду руками вычистила паутину из его мыслей. И заглянула кроткими, без тени упрека глазами прямо в его душу: «Хороший мой, бедный мой!»
И он думать забыл, даже повторять перестал: «Меня удавят, как папеньку!» Не удавят. Потому что у изголовья его кровати встал нежный ангел с пальмовой веткой в руках – разгонять дурные сны и лелеять добрые.
Такую женщину Константин не отдал бы никому. И она его не отдала бы, это он знал наверняка. Посапывала рядом коротким носиком, чуть улыбалась во сне. Плевать, чего хотят ее соотечественники. Плевать, чего хотят за лесами-болотами русские, вроде бы его родная кровь. Есть только они. Они двое. Как предстали когда-то перед Богом – об этом своем шаге цесаревич никогда не жалел.
Жанетта повернулась на другой бок и, не просыпаясь, взяла его за толстый палец. Ей сразу стало безопасно, и она глубоко нырнула в дрему. Милая! Константин чуть не умер от тихого наплыва счастья. И так каждый день. Едва он видил ее стройную фигурку или встречался с ласковым взглядом жены, таял снеговиком под лучами солнца.
Их спальня, как почти все в Бельведере, наполнялась белым, почти девическим светом. Только ковер, на котором настоял великий князь – неприятно же спускать ноги на холодные плитки, – был ярким, красно-синим с коричневым восточным орнаментом. Фальшивая нота! Но Константин потребовал, и Жанетта, как всегда, согласилась.
Она открыла глаза, увидела мужа, по-детски разулыбалась ему. С тех пор как старая любовница Константина, госпожа Вейс, шесть лет назад покинула Варшаву, их счастью ничто не угрожало. Единственное огорчение Жанетты – принадлежность ее ненаглядного к восточной ереси. Он не католик! Но тут уж ничего нельзя поделать. Его семья, его страна разделяли ужасное заблуждение, и, если бы кто-то узнал, что он питает симпатии к католицизму, разразился бы страшный скандал! Ему бы не простили. И весьма быстро заменили на посту.
Жанетта это знала. Уж и без того крайняя душевная деликатность заставила его не требовать перехода жены в православие, тогда как все супруги великих князей, владетельные особы, королевские дочери, настоящие принцессы, под венцом меняли веру. Но не она. Истинная голубица святого Петра.
Княгиня ценила чувствительность мужа, понимала настороженность его родни. Да, ей оставалось только плакать о его собственных заблуждениях. Но она сразу свела на нет общение с любыми проповедниками, епископами и кардиналами – польскими или присланными из Рима, – которые пытались через нее подобраться к супругу и надеялись склонить его на свою сторону.
– Мой муж нерелигиозен, – был ее ответ. Что не совсем правда. Константин верил, глубоко в душе, и, кажется, не отдавая особого предпочтения конфессиям. Все они… только для людей. Бог же видит сердце и не делает различий – таково было его убеждение. Он не давил на жену, воспитанную в вере отцов, позволял ей встречаться с пасторами, терпеливо слушал, что она выписала из очередной нравоучительной книги. Но и только. Ее сердце не могло не болеть.
– Ты обеспокоен? – спросила Жанетта, подсунув кулачок под щеку и не отрывая головы от подушки.
– Да-а, – с раздражением бросил великий князь и закинул руки за голову. – Ездят тут всякие по гостям, а потом короны пропадают.
Супруга мигом поняла, о ком он. Император Николай все-таки вознамерился короноваться. Ему мало было надеть венец, по праву принадлежавший старшему брату. Теперь он забирал и польский трон, который Константин хранил незнамо для кого. Ведь сам не сядет и не просите!
Цесаревич вообще предпочел бы все оставить, как есть – в подвешенном состоянии. Чуть тронь – оборвется. Здесь он походил на старшего брата, покойного Александра. Никогда не умел прямо сказать, чего в действительности хочет. Кроме случая женитьбы на ней, конечно.
– Но Николай не угроза. Он ничуть не переменился ни к тебе, ни ко мне с тех пор, как стал царем. – Жанетта хорошо относилась к младшему брату мужа еще в его бытность великим князем. Только не понимала, как он может править: такой простой! Ни сожалений о прошлом, ни глубоких надломов, ни осознания своей изначальной греховности, а значит, обреченности. Что русские в нем находят? И если находят, то какая примитивная, грубая душой нация! В Константине ее всегда манил спрятанный излом, чувство вины – ни за что, за гибель отца, в которой он-то совсем не виноват. Но винит себя… О! как сладостно врачевать эти неуврачуемые раны. Какое томление от чужой боли, которая ищет выхода и больше не находит его ни в диких поступках, ни в пьянстве, ни в придирках к людям – только в облегчающих сердце слезах у нее на коленях.
– Разве Николай хочет у тебя что-то отнять?
Константин обиженно засопел: хочет! Уже взял корону, хотя должен был струсить и обосраться 14-го. Этого Жанетте муж, конечно, не сказал. Знал, что она с его братцем давно спелась. В прямом смысле. Когда аккомпанировала на фортепьяно. А Никс тянул арии. У него голос недурен. Хитрец! Сумел змеей заползти даже в чистое искренне сердечко невестки. Ну да он, Константин, его насквозь видит.
Единственное. Последнее. Он хочет остаться тут. И чтобы ничего не менялось. Хоть кулаком по столу стучи!
– Послушай, Жансю. – Муж грузно перевернулся на живот, даже стали видны рыжие волоски на необъятном брюхе под задравшейся рубашкой. – Я забочусь только о нашем благополучии. Николай со своим желанием во что бы то ни стало, немедленно короноваться – ему угроза.
– Но почему? – Женщина хлопала удивленными глазами, ее ресницы загибались настолько, что касались век. – Разве он отзывает тебя в Петербург? Снимает с должности? Скажи, что не поедешь. Здесь наш дом. Ты останешься, хоть частным лицом.
«Глупая, конечно, не поеду!»
– Никс вовсе не снимает меня с должности. – Цесаревич вновь повернулся на спину, одной рукой обнял супругу, приспособив ее голову у себя на плече. – Нет, не снимает. Да ему и не по силам. Но, как только он коронуется, мне станет здесь тесно. – Константин запустил два пальца за ворот ночной сорочки, тугой, как у мундира. – Из Петербурга понаедут новые люди. Его люди. Те, кому он доверяет, а я – нет. – Цесаревич продолжал обиженно сопеть. – Здешние жалобщики начнут с прошениями бегать в Россию, а не ко мне. Ведь на меня же и жалуются!
«Но ты подаешь им изрядное число поводов», – вздохнула Жанетта.
– Пока Никс занят делами дома, пока он вдалеке и как будто не имеет к Польше никакого отношения, – гнул свое великий князь, – оно и хорошо. Его здесь никто особо не считает властелином, и к нему никто с наветами на меня не обращается. А там… – Муж махнул в воздухе деревянной негнущейся ладонью. – Сама увидишь, что будет. Соберет мешка три возмущенных писем, предъявит мне и отошлет отсюда. Заставит жить безвылазно в Стрельне, – Константин затосковал. – Запрет, как медведя в зверинце. Ключ оставит у себя. И будет пускать тебя только по воскресеньям. Со мной такое уже было! Когда меня оклеветали, будто я убил ту женщину… француженку, Араджио…[56 - Араджио (Араужо). Вдова португальского консула в Петербурге, француженка. Умерла в 1802 г. в результате неудачного аборта. В ее изнасиловании и убийстве обвинили великого князя Константина, в результате чего от него бежала первая супруга Анна Федоровна, урожденная принцесса Юлиана Саксен-Кобургская, а он сам вынужден был безвыездно жить в загородной резиденции Стрельне. Об этом случае смотри в книге автора «Последний часовой».] И весь город поверил! А это не я, не я! – Он чуть не заплакал. Такой большущий. Пятьдесят лет, взрослый человек. Остатки волос торчком, пузо на одеяле, как арбуз, ноги-столбы, а хуже ребенка. – Ведь ты веришь мне?
– Конечно, верю. – Жанетта обхватила его всклокоченную голову. – Если бы не верила, как бы пошла замуж?
«Да ты и мухи не обидишь, мой дуралей! Только с виду грозный. И этим-то видом вкупе с дурными привычками все пользовались, чтобы выставлять тебя чудовищем. Больше не дам!» – Жанетта ласково поцеловала мужа. Какая гадкая у него все-таки была мать! Столько любви, столько нежности в этом человеке, и все никому не нужно! Другие качества нужны на троне? Так он и не хочет на трон! Хочет только, чтобы его оставили в покое.
– Ты действительно полагаешь, что коронация Николая опасна для нас? – переспросила жена.
Константин замотал головой.
– Не опасна. Нежелательна. Потому что в конечном счете все сведется к одному: как заставить меня покинуть Варшаву? А я уезжать не собираюсь. Так-то. – Он сел в кровати, все еще что-то ворча не то на брата, не то на апрельский холод. – Сегодня вечером придут Фикельмоны. Надо принять их как можно любезнее. Он – новый австрийский посланник в Петербурге. Вена отнюдь не заинтересована в том, чтобы Николай вмешивался в мои польские дела со своей императорской меркой. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы уверить эмиссара Меттерниха: я ему не враг. А ты займи его супругу. Помни, что она – внучка Кутузова и будет весьма влиятельна в Петербурге.
Жанетта вздохнула. Вновь ей, скромнейшему созданию, предстоит играть роль супруги первого лица Польши, властной и знающей себе цену светской дамы… Она этого терпеть не может.
* * *
Как одеться на званый вечер в самом узком кругу? Дарья Федоровна с утра примеряла то одно, то другое. Слишком ярко – только для Неаполя. Слишком чопорно – только для Вены. Слишком пышно – на бал. Слишком строго – в церковь. Наконец, было выбрано голубое платье из шелкового репса с большим полупрозрачным кружевным воротником, наподобие косынки прикрывавшим плечи.
Великокняжеская чета, вернее цесаревич и его непонятная супруга, принимали посла в Бельведере. И сразу, при одном взгляде на мягкую, облаченную «по-домашнему» – в белое муслиновое платье – княгиню Лович, у посланницы отлегло от сердца: исчезла малейшая скованность. Милейшее создание! Такая тихая, словно вода, защищенная от ветра, – ни одно душевное движение не сминает гладь, не поднимает со дна мути.
– Вы проездом? Надеюсь, Варшава вам нравится?
Как можно сказать: нет? Хотя дома графиня Фикельмон записала в дневнике: «Провинциальный город с беспорядочной застройкой и дурными тротуарами. У дам ни одного хорошего туалета».
– Мы движемся из Вены.
– Поистине большой город. Здоров ли старый император Франц? Вы видели этого несчастного мальчика герцога Рейхштадтского?
Последний вопрос княгини выдавал не столько холодное светское любопытство, сколько участие.
– Да, я видела его один раз, – отозвалась посланница, внимательно следя за лицом Лович. За что же ее так немилосердно судят в остальной Варшаве? За неумение давить на мужа и добиваться поблажек для соотечественников? Последнее ей, как видно, нелегко сносить, отсюда и апатия.
– Государь здоров, – произнесла Дарья Федоровна. – А бедный сын Бонапарта напоминает птичку в клетке. Его положение понятно ему самому и причиняет много страданий.
– Страданий, – с явным сочувствием повторила княгиня.
Адам улыбнулся. Знает он, на что направлены намеки лорда Абердина. Россия должна остановиться и отдать все уже завоеванное туркам, в этом поможет новый удар со стороны Персии, недаром же зарезали посла. Князь поежился, он знавал господина Грибоедова еще молодым, подающим большие надежды… В этой игре Польша – отвлекающий маневр, не более. Ради кого? Турции, Каджаров? Или самих русских? Чарторыйский был хорошим дипломатом, умел держать свою неприязнь в узде, умел здраво оценивать ситуацию. Сейчас и его соотечественники, и султан, и персы – всего лишь веревки, которыми стараются связать руки главному сопернику. Он же сам остается неизменен.
«Если удастся вызвать ссору между цесаревичем Константином, который фактически правит Вашей страной, и его братом, если последний откажется от идеи коронации, это как нельзя более поспособствует нашим видам, а в самой Польше ободрит патриотов и возродит угасшую было надежду на освобождение».
Знает он, чем можно вызвать гнев Николая и спровоцировать ссору. Этими вот жалобами! Князь Адам взял со стола пачку сегодняшних писем и, открыв нижний ящик, присовокупил их к другим, сходного содержания. Николай по природе справедлив, этого не отнимешь. Если он узнает о вопиющих нарушениях, которые творит его брат, он может не сдержаться. Оба горячи. Наговорят с три короба. Хорошо, если не подерутся.
«Если же после этого по несчастному стечению обстоятельств русский царь покинет мир…» То все подумают, будто ловушку брату подстроил Константин. И придет время справедливо негодовать. «Ваши соотечественники восстанут не как мятежники и нарушители присяги, а как верные подданные, потрясенные бесчеловечием и коварством цесаревича. А вакантный трон в самом Петербурге породит столько неурядиц в нестабильной деспотической стране, что русские надолго будут заняты внутренними распрями и не станут помышлять о делах за своими рубежами».
Вот этими словами лорд Абердин выдавал главную заботу своего кабинета. Как Адам и считал – не о Польше, Турции или Персии. Но в тот момент, когда большие игроки заняты друг другом, у малых появляется шанс. Адам зевнул. Все, о чем его просили из Лондона, он мог устроить. Но с легкими поправками. Чтобы соблюсти собственный интерес.
Глава 7. Цесаревич
Середина апреля. Варшава. Дворец Бельведер
Бельведерский дворец в Варшаве походил сразу на все загородные резиденции под Петербургом. С главного фасада – на Стрельню, где великий князь Константин провел молодые, не столь счастливые годы. Те же высокие полукруглые арки, та же шатровая крыша. На Таврический, где бабка Екатерина доживала последние годы и где второй из внуков застал ее с князем Зубовым, последним фаворитом, какой скандал! Та же распростертость по земле, низкий фундамент, классический портик и широкий двор для карет: к его высочеству на поклон езжают толпы гостей-просителей.
На Павловск – гнездо матери – английским парком с прудом и каналами. Стенами на взгорье, усыпанном то зеленой, то желтой, то красно-бурой листвой дубов и кленов. Только зимой он был отменно нехорош – белый на белом. Во внутренних комнатах тоже все было белым-бело. Любимый цвет Константина. Зачем помпезность? Здесь жить, а не спектакли разыгрывать. Для разнообразия хватит люстр темной бронзы или светло-салатового мрамора на полу, ковров «от моря до моря», т. е. от стены к стене. Таков был его стиль, и женщину цесаревич выбрал под стать – зимнюю, без красок. Но нежную-нежную…
Не было только одной очевидной параллели ни во внешнем облике дворца, ни в убранстве залов. Михайловский замок, где погиб император Павел, остался как бы за рамками такого тихого, такого семейного Бельведера. Никаких подъемных мостов, башен, рвов, ничего готического, рыцарственного и предательского одновременно. Константин хорошо помнил, как роковой мартовской ночью его приволокли в покои рыдающего брата Александра, как им распоряжались пьяные офицеры-заговорщики и как он решил, что всю их семью убьют. Ничего похожего не было и не могло быть в доме его истинного счастья! Там, где милая Жанетта безвольными с виду руками вычистила паутину из его мыслей. И заглянула кроткими, без тени упрека глазами прямо в его душу: «Хороший мой, бедный мой!»
И он думать забыл, даже повторять перестал: «Меня удавят, как папеньку!» Не удавят. Потому что у изголовья его кровати встал нежный ангел с пальмовой веткой в руках – разгонять дурные сны и лелеять добрые.
Такую женщину Константин не отдал бы никому. И она его не отдала бы, это он знал наверняка. Посапывала рядом коротким носиком, чуть улыбалась во сне. Плевать, чего хотят ее соотечественники. Плевать, чего хотят за лесами-болотами русские, вроде бы его родная кровь. Есть только они. Они двое. Как предстали когда-то перед Богом – об этом своем шаге цесаревич никогда не жалел.
Жанетта повернулась на другой бок и, не просыпаясь, взяла его за толстый палец. Ей сразу стало безопасно, и она глубоко нырнула в дрему. Милая! Константин чуть не умер от тихого наплыва счастья. И так каждый день. Едва он видил ее стройную фигурку или встречался с ласковым взглядом жены, таял снеговиком под лучами солнца.
Их спальня, как почти все в Бельведере, наполнялась белым, почти девическим светом. Только ковер, на котором настоял великий князь – неприятно же спускать ноги на холодные плитки, – был ярким, красно-синим с коричневым восточным орнаментом. Фальшивая нота! Но Константин потребовал, и Жанетта, как всегда, согласилась.
Она открыла глаза, увидела мужа, по-детски разулыбалась ему. С тех пор как старая любовница Константина, госпожа Вейс, шесть лет назад покинула Варшаву, их счастью ничто не угрожало. Единственное огорчение Жанетты – принадлежность ее ненаглядного к восточной ереси. Он не католик! Но тут уж ничего нельзя поделать. Его семья, его страна разделяли ужасное заблуждение, и, если бы кто-то узнал, что он питает симпатии к католицизму, разразился бы страшный скандал! Ему бы не простили. И весьма быстро заменили на посту.
Жанетта это знала. Уж и без того крайняя душевная деликатность заставила его не требовать перехода жены в православие, тогда как все супруги великих князей, владетельные особы, королевские дочери, настоящие принцессы, под венцом меняли веру. Но не она. Истинная голубица святого Петра.
Княгиня ценила чувствительность мужа, понимала настороженность его родни. Да, ей оставалось только плакать о его собственных заблуждениях. Но она сразу свела на нет общение с любыми проповедниками, епископами и кардиналами – польскими или присланными из Рима, – которые пытались через нее подобраться к супругу и надеялись склонить его на свою сторону.
– Мой муж нерелигиозен, – был ее ответ. Что не совсем правда. Константин верил, глубоко в душе, и, кажется, не отдавая особого предпочтения конфессиям. Все они… только для людей. Бог же видит сердце и не делает различий – таково было его убеждение. Он не давил на жену, воспитанную в вере отцов, позволял ей встречаться с пасторами, терпеливо слушал, что она выписала из очередной нравоучительной книги. Но и только. Ее сердце не могло не болеть.
– Ты обеспокоен? – спросила Жанетта, подсунув кулачок под щеку и не отрывая головы от подушки.
– Да-а, – с раздражением бросил великий князь и закинул руки за голову. – Ездят тут всякие по гостям, а потом короны пропадают.
Супруга мигом поняла, о ком он. Император Николай все-таки вознамерился короноваться. Ему мало было надеть венец, по праву принадлежавший старшему брату. Теперь он забирал и польский трон, который Константин хранил незнамо для кого. Ведь сам не сядет и не просите!
Цесаревич вообще предпочел бы все оставить, как есть – в подвешенном состоянии. Чуть тронь – оборвется. Здесь он походил на старшего брата, покойного Александра. Никогда не умел прямо сказать, чего в действительности хочет. Кроме случая женитьбы на ней, конечно.
– Но Николай не угроза. Он ничуть не переменился ни к тебе, ни ко мне с тех пор, как стал царем. – Жанетта хорошо относилась к младшему брату мужа еще в его бытность великим князем. Только не понимала, как он может править: такой простой! Ни сожалений о прошлом, ни глубоких надломов, ни осознания своей изначальной греховности, а значит, обреченности. Что русские в нем находят? И если находят, то какая примитивная, грубая душой нация! В Константине ее всегда манил спрятанный излом, чувство вины – ни за что, за гибель отца, в которой он-то совсем не виноват. Но винит себя… О! как сладостно врачевать эти неуврачуемые раны. Какое томление от чужой боли, которая ищет выхода и больше не находит его ни в диких поступках, ни в пьянстве, ни в придирках к людям – только в облегчающих сердце слезах у нее на коленях.
– Разве Николай хочет у тебя что-то отнять?
Константин обиженно засопел: хочет! Уже взял корону, хотя должен был струсить и обосраться 14-го. Этого Жанетте муж, конечно, не сказал. Знал, что она с его братцем давно спелась. В прямом смысле. Когда аккомпанировала на фортепьяно. А Никс тянул арии. У него голос недурен. Хитрец! Сумел змеей заползти даже в чистое искренне сердечко невестки. Ну да он, Константин, его насквозь видит.
Единственное. Последнее. Он хочет остаться тут. И чтобы ничего не менялось. Хоть кулаком по столу стучи!
– Послушай, Жансю. – Муж грузно перевернулся на живот, даже стали видны рыжие волоски на необъятном брюхе под задравшейся рубашкой. – Я забочусь только о нашем благополучии. Николай со своим желанием во что бы то ни стало, немедленно короноваться – ему угроза.
– Но почему? – Женщина хлопала удивленными глазами, ее ресницы загибались настолько, что касались век. – Разве он отзывает тебя в Петербург? Снимает с должности? Скажи, что не поедешь. Здесь наш дом. Ты останешься, хоть частным лицом.
«Глупая, конечно, не поеду!»
– Никс вовсе не снимает меня с должности. – Цесаревич вновь повернулся на спину, одной рукой обнял супругу, приспособив ее голову у себя на плече. – Нет, не снимает. Да ему и не по силам. Но, как только он коронуется, мне станет здесь тесно. – Константин запустил два пальца за ворот ночной сорочки, тугой, как у мундира. – Из Петербурга понаедут новые люди. Его люди. Те, кому он доверяет, а я – нет. – Цесаревич продолжал обиженно сопеть. – Здешние жалобщики начнут с прошениями бегать в Россию, а не ко мне. Ведь на меня же и жалуются!
«Но ты подаешь им изрядное число поводов», – вздохнула Жанетта.
– Пока Никс занят делами дома, пока он вдалеке и как будто не имеет к Польше никакого отношения, – гнул свое великий князь, – оно и хорошо. Его здесь никто особо не считает властелином, и к нему никто с наветами на меня не обращается. А там… – Муж махнул в воздухе деревянной негнущейся ладонью. – Сама увидишь, что будет. Соберет мешка три возмущенных писем, предъявит мне и отошлет отсюда. Заставит жить безвылазно в Стрельне, – Константин затосковал. – Запрет, как медведя в зверинце. Ключ оставит у себя. И будет пускать тебя только по воскресеньям. Со мной такое уже было! Когда меня оклеветали, будто я убил ту женщину… француженку, Араджио…[56 - Араджио (Араужо). Вдова португальского консула в Петербурге, француженка. Умерла в 1802 г. в результате неудачного аборта. В ее изнасиловании и убийстве обвинили великого князя Константина, в результате чего от него бежала первая супруга Анна Федоровна, урожденная принцесса Юлиана Саксен-Кобургская, а он сам вынужден был безвыездно жить в загородной резиденции Стрельне. Об этом случае смотри в книге автора «Последний часовой».] И весь город поверил! А это не я, не я! – Он чуть не заплакал. Такой большущий. Пятьдесят лет, взрослый человек. Остатки волос торчком, пузо на одеяле, как арбуз, ноги-столбы, а хуже ребенка. – Ведь ты веришь мне?
– Конечно, верю. – Жанетта обхватила его всклокоченную голову. – Если бы не верила, как бы пошла замуж?
«Да ты и мухи не обидишь, мой дуралей! Только с виду грозный. И этим-то видом вкупе с дурными привычками все пользовались, чтобы выставлять тебя чудовищем. Больше не дам!» – Жанетта ласково поцеловала мужа. Какая гадкая у него все-таки была мать! Столько любви, столько нежности в этом человеке, и все никому не нужно! Другие качества нужны на троне? Так он и не хочет на трон! Хочет только, чтобы его оставили в покое.
– Ты действительно полагаешь, что коронация Николая опасна для нас? – переспросила жена.
Константин замотал головой.
– Не опасна. Нежелательна. Потому что в конечном счете все сведется к одному: как заставить меня покинуть Варшаву? А я уезжать не собираюсь. Так-то. – Он сел в кровати, все еще что-то ворча не то на брата, не то на апрельский холод. – Сегодня вечером придут Фикельмоны. Надо принять их как можно любезнее. Он – новый австрийский посланник в Петербурге. Вена отнюдь не заинтересована в том, чтобы Николай вмешивался в мои польские дела со своей императорской меркой. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы уверить эмиссара Меттерниха: я ему не враг. А ты займи его супругу. Помни, что она – внучка Кутузова и будет весьма влиятельна в Петербурге.
Жанетта вздохнула. Вновь ей, скромнейшему созданию, предстоит играть роль супруги первого лица Польши, властной и знающей себе цену светской дамы… Она этого терпеть не может.
* * *
Как одеться на званый вечер в самом узком кругу? Дарья Федоровна с утра примеряла то одно, то другое. Слишком ярко – только для Неаполя. Слишком чопорно – только для Вены. Слишком пышно – на бал. Слишком строго – в церковь. Наконец, было выбрано голубое платье из шелкового репса с большим полупрозрачным кружевным воротником, наподобие косынки прикрывавшим плечи.
Великокняжеская чета, вернее цесаревич и его непонятная супруга, принимали посла в Бельведере. И сразу, при одном взгляде на мягкую, облаченную «по-домашнему» – в белое муслиновое платье – княгиню Лович, у посланницы отлегло от сердца: исчезла малейшая скованность. Милейшее создание! Такая тихая, словно вода, защищенная от ветра, – ни одно душевное движение не сминает гладь, не поднимает со дна мути.
– Вы проездом? Надеюсь, Варшава вам нравится?
Как можно сказать: нет? Хотя дома графиня Фикельмон записала в дневнике: «Провинциальный город с беспорядочной застройкой и дурными тротуарами. У дам ни одного хорошего туалета».
– Мы движемся из Вены.
– Поистине большой город. Здоров ли старый император Франц? Вы видели этого несчастного мальчика герцога Рейхштадтского?
Последний вопрос княгини выдавал не столько холодное светское любопытство, сколько участие.
– Да, я видела его один раз, – отозвалась посланница, внимательно следя за лицом Лович. За что же ее так немилосердно судят в остальной Варшаве? За неумение давить на мужа и добиваться поблажек для соотечественников? Последнее ей, как видно, нелегко сносить, отсюда и апатия.
– Государь здоров, – произнесла Дарья Федоровна. – А бедный сын Бонапарта напоминает птичку в клетке. Его положение понятно ему самому и причиняет много страданий.
– Страданий, – с явным сочувствием повторила княгиня.