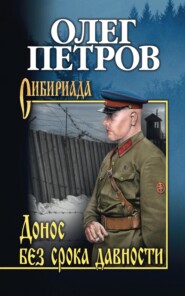По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Снегири на снегу (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Митяй. Дремин Митяя послал. Он у лейтенанта заместо ординарца… Крюков судорожно сглотил сладкую слюну, машинально обшаривая десны в поисках сахарных крупиц чуть саднящим языком. Торопился с сахарным куском разделаться, ободрал язык и нёбо слегка…
– Фе-о-дор, мать твою! Ты где?! Чево воды в рот набрал? Федька!..
Митяй совсем рядом прошел. Еще пару раз окликнул, подался обратно. Только тут Крюков с облегчением перевел дыхание. Но от горько пахнувшего пихтового ствола не отлипал. Слушал.
Его позвали-окликнули еще пару раз справа, потом поодаль слева. Потом кто-то довольно громко выругался, и голоса стали удаляться. Но затаившийся Федор еще долго прислушивался к каждому звуку и шороху…
Потом долго по лесу петли вил, стараясь как можно дальше уйти от товарищей. Да и какие они ему товарищи! На что надеются? Куда идут?! Линию фронта догнать… Дурни! Догонишь ее теперича… Вона, как немец-то их… Бабахнул из танков, минами накрыл и – дальше попер!..
Присев отдышаться, Крюков, не чувствуя вкуса, лишь ощущая, как тяжестью наполняется желудок, размолол крепкими желтоватыми зубами черствую, тронутую легким налетом плесени полубуханку. Хотелось пить, нестерпимо. Зашарил глазами вокруг, поднялся на ноги. Побрел по еле заметной тропке, и вскоре подвернулась в рыжей глиняной ямке лужа. Опустился на четвереньки, жадно принялся лакать…
Через пару суток прикончил последний кусок сахару, жевал редкую бруснику, еще какую-то ягоду. Расползающихся от сырости грибов поостерегся.
Когда на целый день зарядил мелкий, быстро пропитавший всю одежду до последней нитки дождь, Крюков почувствовал, что его охватывает, становясь непреодолимым, отчаяние. Отчаяние и пронзительная жалость к самому себе. Он брел и брел по лесной тропе, она становилась то явственней, то снова еле заметно вилась меж кустов и замшелых стволов осин. Крюкова в который раз уже бросало на очередной осклизлый осиновый ствол. Каждая клеточка измученного тела вопила от безысходности: еще немного – и в Федоре окончательно дозрело бы заполняющее всё естество желание вырвать из волглых брючин тонкий брезентовый ремень, накинуть его на шею и потуже затянуть свободный конец на ближайшей кривой и мокрой палке иудиного дерева.
Но внезапно заросли расступились, тропка подалась чуть вверх, и впереди замаячила темно-серая крыша. Хутор! Крюков вяло и безразлично пережевал на опухшем языке давно приготовленные им для немцев слова о сдаче в плен, медленно запереставлял опухшие колотушки ног в долгожданному жилью. Для немцев речь приготовил, а тут – баба! С крыльца-то рявкнула, а баньку, пока он навоз чистил, приготовила…
За столом у лесничихи Федор сидел разомлевший от мытья, в чистой рубахе. Хозяйка дала. И накормила от пуза. Постелила ему в горнице, на полу, молча задула лампу, молча, пошуршав одеждой и занавесью, забралась на печь. Отяжелевший от незамысловатой, но обильной еды Федор, блаженно кряхтя, уклался под лоскутное одеяло. Заснул сразу. А под утро поначалу задохнулся в испуге от навалившегося горячей тяжестью большого и мягкого тела. Устинья оказалась охоча до мужской ласки столь же властно, как и на крыльце прикрикнула. За каждую проглоченную Федором картофелину, ломоть ржаного подового хлеба и кусок прошлогоднего сала, шаря крепкими руками, сжимая могучими бедрами и впиваясь жадными губами, отдачи потребовала.
И не стало для Федора Крюкова войны на белом свете. На целых три недели. Свыкся было уже – ан нет!
В то утро в аккурат приладился за банькой дровец наколоть, нарастить и без того изрядную поленницу. Стрекот мотоциклета издаля услыхал.
В момент сиганул с колуном в руках в ельничек, языком подступающий к баньке от леса, заховался в колючей непроглазной гуще. Но это – со стороны, а Федору щелка нашлась – застриг глазом.
Выкатился к загороди серо-бурый мотоциклет с люлькой, остро пахнуло отработанными бензиновыми газами. На люльке впереди штырь, а на нем – пулемет тупорылый. И три здоровенных лба на мотоциклете. При всей амуниции, с диковинными стальными, которые, как еще в роте мужики рассказывали, очередями бьющими, антоматами поперек груди. В касках тоже нерусских, в дождевиках и сапогах, добротных, но кургузых, непривычного глазу болотного цвета.
Один из немчуров сразу в курятник подался, ухватив с палисадника у крыльца большое решето, а другой – в стайку, где повизгивал поросенок. Вот там и протрещала коротко экономная очередь. И одновременно дверца стайки распахнулась и из дома дверь. Немец застреленного поросенка за ногу вытягивает, а на крыльце выросла могучая Устинья.
Тут и третий, долговязый, сигареткой у мотоциклета до этого попыхивающий, осклабился, залопотал чего-то, залопотал, разухмылялся, скотина иноземная, и – к Устинье! Тот, видать, еще ходок: подскочил к лесничихе, лапнул обеими руками за тяжелые груди. Вот тут-то она долго и не думала. Влепила ему промеж глаз – немец так и прокинулся! А другой-то порося бросил да от пояса из своего диковинного антомата-то по Устинье и резанул!
Все произошло столь быстро и неожиданно для Крюкова, что даже обмочился он малость, с кукорок на задницу бухнувшись в своем еловом укрытии. Тяжеленным обухом колуна по ноге съездило – не почувствовал! Обмер, как кондратием разбило!
И не видел, как очухался долговязый, как выскочил с решетом, полным яиц, из курятника последний из троицы немчуров. Только и слышал, трясясь от ужаса, как непрошеные гости, гремя и швыряя всем подряд, перетрясли всё в доме. Потом снова затарахтел мотоциклет, и немцы укатили.
Федор еще долго сидел в ельнике. После, опасливо озираясь, выполз на карачках оттуда, боком-боком обошел убитую, сноровисто набил в мешок разбросанные в избе по полу караваи хлеба, нагреб в подполе картошки, нашел за печкой соль в тряпице. Озираясь и прислушиваясь, выскользнул из избы во двор, подался уже было к лесу, но, вспомнив, вернулся, подошел к лесничихе. Стараясь не глядеть в лицо и на залитую кровью грудь Устиньи, задрал цветастую оборчатую верхнюю юбку и, путаясь трясущимися руками в подоле нижней, отыскал на ней карман с двумя коробками спичек. Один был полон, в другом громыхало всего несколько штучек. Крюков досадливо покачал головой…
От хутора он отошел в глубину леса версты на полторы. Облюбовал укромный уголок подле ручья на взлобке, меж двух давным-давно рухнувших могучих сосен. Лопату с собой тоже ведь захватил.
И принялся углублять, разрывать яму, оставшуюся на месте вывороченных корней одного из повалившихся деревьев. Так и обустроил себе полуземлянку, провозившись весь день дотемна. Вспомнив свой небольшой таежный опыт, обустроил тайничок для продуктов, чтобы всякая мелкая живность не попортила припасы, наломал лапника. Уработавшись, спал первую ночь, как убитый. Утром разбудила резким криком какая-то птица, заставив вскочить в нервном перепуге. Но вокруг было покойно. Федор развел небольшой костерок под шатром разлапистой пихты, чтобы не выдать себя дымом, согрелся чаем, напек картошки.
Первую неделю он обратно на хутор не совался, хотя очень хотелось обратно – в немудреный уют лесничихиного дома, в тепло. Изба на хуторе казалась раем, особенно по сравнению с нынешним обиталищем. А потом прихваченный при бегстве харч иссяк – поневоле надо было навестить дом Устиньи. Да и лоскутное одеяло с тюфяком и подушкой не помешало бы, кое-что из посуды тоже. Единственный раз Федор вспомнил убитую лесничиху с тоской: за примачество кормила щедро. Перед глазами встала огромная чугунная сковорода со скворчащей салом яишней, толстые ломти хлеба, кринка с густым молоком.
Бог ты мой! Да как же он со страху запамятовал-то! Куры, корова недоеная! Умная у лесничихи буренка: после утренней дойки Устинья отпускала ее на свободный выпас, та привычно бродила вокруг хутора до вечера, а потом послушно возвращалась домой.
Федор заткнул за сыромятный ремень, которым опоясывал добротный, хотя и несколько коротковатый кожушок, доставшийся «в наследство» от покойного лесника, острый плотницкий топорик – его тоже не забыл, убегая с хутора, – схватился было за черенок лопаты, но вспомнил, что на хуторе есть еще две, в стайке.
Страшил предстоящий поход на хутор, страшила, но все-таки была необходимой предстоящая процедура погребения трупа лесничихи. Но больше Федор был озабочен другим: как и где ему без помех разделать корову, как без потерь сохранить весь мясной продукт. Понятное дело, что по ночам уже морозец прихватывает, до полудня закраины на лужах не отходят, но для мяса это – тьфу. Засолить бы, да нечем – сольцы в обрез, горсточка. Оставалось, как подумалось Федору, только одно: сварить все, что можно, а потом закоптить. Но вот как это проделать, чтобы себя-то не выдать дымом и обширным кухарничеством?
Тяжесть предстоящих хозяйственных хлопот Федора Крюкова на себя взяли другие. Опередили, волки позорные! Немецкая сволота или деревенские говнюки – хрен их знает! Те и другие, скорее всего, – кость им в глотку! От коровы во дворе осталось побуревшее огромное пятно, в котором валялись обрубки копыт и еще какие-то жалкие ошметья. Курей, понятно, тоже не было. Подполье в доме подчищено до последней гнилой бульбы. Голым-голо на полках в избе, никакого тюфяка и подушек на печи, занавесок на окнах, домотканой дорожки на полу в горнице. От кадушки с квашеной капустой и деревянной бадейки с солеными огурцами в сенках – только два круга на пыльных плахах затоптанного пола.
По выстуженной избе, с расхристанными настежь дверьми, гулял пронизывающий сквозняк, противно позванивая обломками стекла в ближнем к крыльцу оконце: одна из пуль, предназначенных строптивой лесничихе, угодила в стеколку, а закончила полет, расколов маленькую, с ладонь, черную от времени иконку, висевшую подле двух образов в переднем углу горницы.
Образов тоже не было, а расщепленные половинки иконки валялись под лавкой. Крюков, кряхтя, поднял их, приложил к друг другу, потом сунул в карман.
Потерянно обошел весь хутор, заглянул в каждый угол. Окончательно убедился, что побывали здесь опосля и немцы, и местные. Коровенку, курей – это немчуры сгребли, а остальное барахло – вряд ли. С такой крестьянской основательностью только деревенские живоглоты все могут подчистить. Они!
Но зато и лесничиху закопали.
Крюков наконец-то увидел просто, но аккуратно прибранную могилу, обложенную у основания полосой серых голышей. Холмик венчал небольшой, старательно вытесанный крест с прибитой к нему дощечкой, на которой было выцарапано: «Поволяева Устинья. XI-1941».
Федор несколько минут постоял у могилы, потом пошел в избу, оторвал висевший за косяком кухонного оконца на бечевочке огрызок карандаша, вернулся и нацарапал на дощечке под крестом число. Не целый же месяц убивал немец Устинью. Мгновения хватило прекратить жизнь в крепком женском теле.
Федору вдруг – ни к месту, но до того, что аж заныло в паху, – вспомнились жаркие ночные ласки лесничихи, ее ненасытность. Он вздрогнул, нашарил в кармане обломки черной иконки и, снова сложив их, вдавил в уже прихваченную морозом глину под могильным крестом.
И тут – как Господь наградил! – торкнуло в плешивую башку! Как запамятовал-то?! В стайке, под слегами в углу – основательно, с утеплением на зиму, еще небось бывшим хозяином оборудованный гурт! С запасом брюквы для скотины!
Федор ринулся к сарайчику. Нетронутым оказался схрон с брюквой! Проглядели местные!
На этой самой брюкве, на редкой мелкой лесной живности, иногда попадавшейся в неумелые силки, расставленные Федором вокруг его лесного логова, протянул он до февраля. А там мочи уже не осталось совсем, и промерзший, завшивевший Федор Крюков приплелся в деревню.
Сдался в немецкую комендатуру, заявив о готовности служить новому порядку. Подсыпали ему немцы, помолотила от души местная полицайская сволота, увезли после в городишко, в гестапо. Там тоже особо не церемонились, выхлестав несколько зубов на допросах, но после смилостивились: определили в ту же деревню на службу в местную полицай-команду. По первости под жестким доглядом старшего полицая Степана Михановского уборные чистить и в конюшне полицайской вкалывать – навоз грести.
Только через несколько месяцев получил Федор черный мундир, белую повязку полицая и тяжелую немецкую короткоствольную винтовку «манлихер». Так и стал Федор Крюков полицаем, а еще негласным осведомителем остбургского гестапо. Осенью сорок второго отличился: поймал двух блуждавших, как он когда-то, измученных красноармейцев. Вскорости повысили до старшего полицейского, после чего Крюков уверовал в прочность своего положения, а после осторожных расспросов новоприобретенных деревенских знакомых из числа некогда его же лупивших сослуживцев, положил окончательно глаз и на вожделенный хутор убитой лесничихи. И принялся потихоньку наводить там порядок, время от времени, все чаще и чаще, наезжая туда в свободное от службы время.
Вот и в этот день, по скрипящему под полозьями свежему снежку довольный Крюков возвертался в деревню на легких санках – предмете своей особой гордости. Денек на хуторе провел с пользой – закончил возиться с печью, пробную топку устроил – красота!
Но все три версты до выезда на шоссе округу прослушивал настороженно, винтовку под рукой держал с загнанным в патронник патроном. Еще бы! Начальник полицай-команды Михановский поутру собрал всех и свистящим шепотом, страшно вращая глазами, выдал установку на повышенную бдительность: из лагеря под Остбургом был побег, где-то в лесу шарахается вторые или третьи сутки один придурок. «Засекретились тоже, чертовы гансы! – матерился, еще больше принижая голос, начальник Степан. – Нет, чтобы сразу оповестить!» – «Да его уже волки сожрали! – лениво откликнулся кто-то. – Или замерз. Чай, не лето…» – «Молчать, уроды! – уже не сдерживаясь, проорал Михановский. – Ушки на макушке, зыркать по округе! Команда выдана искать со всей тщательностью! Сам шеф городского гестапо награду сулил, ежели кому подфартит! Оно как!» – «Видать, важну птицу прощелкали…» – «Цыц, пся крев! Рыскать!»
Ага, все прямо так и кинулись. Это в чистом поле да в спокойном лесе охоту устраивать – забава. А когда за каждым кустом партизан чудится… И еще бы только чудился… Деревенские полицаи себя более-менее вольготно чувствовали лишь по одной причине: небольшой, но до зубов вооруженный немецкий гарнизон обосновался в деревне. Почему-то выбрали ее немцы опорным пунктом, оборудовали в бывшем сельсовете комендатуру, в бывшем клубе – казарму на полуроту при двух бронетранспортерах.
А партизаны на шоссе пакостили. Нет-нет да и грохнут армейскую колонну, правда, самый ближний налет был верстах в двадцати от деревни, но чем черт не шутит. И все-таки лишний раз надо бы поостеречься, подумалось Крюкову, не частить с поездками на хутор.
С этими мыслями и выскочил из-за поворота – прямо на сотрясающегося в приступах кашля человека в заиндевелом замурзанном ватнике с прописанном хлоркой номером во всю спину. И всё как-то само собой получилось: скакнул из санок да и хватил недоумка прикладом по загривку. Так и бухнулся, падла, мордой в санную колею.
Федор обыскал жертву. Ничего. Никакого оружия. Вообще ничего. Доходяга. Сомнений не было – тот самый. Которого ищут. Важна птица!.. Молодой, однако, для важной птицы. Дохляк!
Крюков замер в раздумье. Упереть добычу в деревню в комендатуру? А как и в сам-деле ценный фрукт? Напыщенный обер-лейтенант из комендатуры обещанную награду, ежели Степка не соврал, и получит, а ему, Федору, кукиш под нос сунут. Что делать-то? А ежели так…
ГЛАВА 6. РЕНИКЕ
Пять стремительных белых фигур – новая напасть, взметнувшая снегириную стайку на вершину ольхи. Белые лыжники появились из-за густого ельника и, внезапно наткнувшись на глубокую борозду в снегу, резко свернули к вырвавшейся на белое поле ольхе. Трое настороженно присели у кромки кустов, потянув из-за спин обмотанные бинтами автоматы, а двое, еле слышно щелкнув предохранителями на оружии, скользнули к черной фигуре, распластавшейся на снегу у ольхи. Один из лыжников опустился на колено, осторожно тронул у лежавшего слипшиеся, скованные бурыми льдинками волосы, потом медленно перевернул человека на спину, подсунув под голову сдернутую с руки армейскую трехпалую рукавицу. Быстро расстегнул бурый ватник, на несколько мгновений прижал ладонь к телу, потом нащупал артерию на шее. Обернувшись, утвердительно кивнул напарнику.
Бережно перевернул не приходящего в сознание человека снова лицом вниз, вынул из-под маскомбинезона перевязочный пакет. Напарник поднял над головой руку, показывая два пальца. От кустов тут же отделились еще двое лыжников. Тоже из-под маскировочных комбинезонов они выхватили тесаки, быстрыми и точными движениями рубанули под корень по тонкой березке, потащили их к ольхе, на ходу зачищая гибкие стволы от веток. Перевязка не заняла и минуты. Неподвижную черную фигуру тонким и прочным шнуром, под плечи и за ноги примотали к импровизированным березовым полозьям, комли которых выступали нал головой найденного человека подобием длинных ручек носилок, а тонкие, во множестве мелких веточек, концы березовых стволов упирались в снег ниже бурых войлочных бахил метра на полтора. Двое лыжников сдернули человека-санки с места и покатили вдоль опушки, по кромке поля, к чернеющему впереди лесу. Чуть поодаль, меж кустов и деревьев, впереди этой пары лыжников, со странной и непонятной для постороннего глаза поклажей, заскользил, переведя автомат на грудь третий из пятерки, а двое последних, приотстав, прикрыли товарищей сзади.
***
Собачий лай за окном взвился до остервенения. Гауптштурмфюрер Ренике недовольно поднялся из кресла.
– Фе-о-дор, мать твою! Ты где?! Чево воды в рот набрал? Федька!..
Митяй совсем рядом прошел. Еще пару раз окликнул, подался обратно. Только тут Крюков с облегчением перевел дыхание. Но от горько пахнувшего пихтового ствола не отлипал. Слушал.
Его позвали-окликнули еще пару раз справа, потом поодаль слева. Потом кто-то довольно громко выругался, и голоса стали удаляться. Но затаившийся Федор еще долго прислушивался к каждому звуку и шороху…
Потом долго по лесу петли вил, стараясь как можно дальше уйти от товарищей. Да и какие они ему товарищи! На что надеются? Куда идут?! Линию фронта догнать… Дурни! Догонишь ее теперича… Вона, как немец-то их… Бабахнул из танков, минами накрыл и – дальше попер!..
Присев отдышаться, Крюков, не чувствуя вкуса, лишь ощущая, как тяжестью наполняется желудок, размолол крепкими желтоватыми зубами черствую, тронутую легким налетом плесени полубуханку. Хотелось пить, нестерпимо. Зашарил глазами вокруг, поднялся на ноги. Побрел по еле заметной тропке, и вскоре подвернулась в рыжей глиняной ямке лужа. Опустился на четвереньки, жадно принялся лакать…
Через пару суток прикончил последний кусок сахару, жевал редкую бруснику, еще какую-то ягоду. Расползающихся от сырости грибов поостерегся.
Когда на целый день зарядил мелкий, быстро пропитавший всю одежду до последней нитки дождь, Крюков почувствовал, что его охватывает, становясь непреодолимым, отчаяние. Отчаяние и пронзительная жалость к самому себе. Он брел и брел по лесной тропе, она становилась то явственней, то снова еле заметно вилась меж кустов и замшелых стволов осин. Крюкова в который раз уже бросало на очередной осклизлый осиновый ствол. Каждая клеточка измученного тела вопила от безысходности: еще немного – и в Федоре окончательно дозрело бы заполняющее всё естество желание вырвать из волглых брючин тонкий брезентовый ремень, накинуть его на шею и потуже затянуть свободный конец на ближайшей кривой и мокрой палке иудиного дерева.
Но внезапно заросли расступились, тропка подалась чуть вверх, и впереди замаячила темно-серая крыша. Хутор! Крюков вяло и безразлично пережевал на опухшем языке давно приготовленные им для немцев слова о сдаче в плен, медленно запереставлял опухшие колотушки ног в долгожданному жилью. Для немцев речь приготовил, а тут – баба! С крыльца-то рявкнула, а баньку, пока он навоз чистил, приготовила…
За столом у лесничихи Федор сидел разомлевший от мытья, в чистой рубахе. Хозяйка дала. И накормила от пуза. Постелила ему в горнице, на полу, молча задула лампу, молча, пошуршав одеждой и занавесью, забралась на печь. Отяжелевший от незамысловатой, но обильной еды Федор, блаженно кряхтя, уклался под лоскутное одеяло. Заснул сразу. А под утро поначалу задохнулся в испуге от навалившегося горячей тяжестью большого и мягкого тела. Устинья оказалась охоча до мужской ласки столь же властно, как и на крыльце прикрикнула. За каждую проглоченную Федором картофелину, ломоть ржаного подового хлеба и кусок прошлогоднего сала, шаря крепкими руками, сжимая могучими бедрами и впиваясь жадными губами, отдачи потребовала.
И не стало для Федора Крюкова войны на белом свете. На целых три недели. Свыкся было уже – ан нет!
В то утро в аккурат приладился за банькой дровец наколоть, нарастить и без того изрядную поленницу. Стрекот мотоциклета издаля услыхал.
В момент сиганул с колуном в руках в ельничек, языком подступающий к баньке от леса, заховался в колючей непроглазной гуще. Но это – со стороны, а Федору щелка нашлась – застриг глазом.
Выкатился к загороди серо-бурый мотоциклет с люлькой, остро пахнуло отработанными бензиновыми газами. На люльке впереди штырь, а на нем – пулемет тупорылый. И три здоровенных лба на мотоциклете. При всей амуниции, с диковинными стальными, которые, как еще в роте мужики рассказывали, очередями бьющими, антоматами поперек груди. В касках тоже нерусских, в дождевиках и сапогах, добротных, но кургузых, непривычного глазу болотного цвета.
Один из немчуров сразу в курятник подался, ухватив с палисадника у крыльца большое решето, а другой – в стайку, где повизгивал поросенок. Вот там и протрещала коротко экономная очередь. И одновременно дверца стайки распахнулась и из дома дверь. Немец застреленного поросенка за ногу вытягивает, а на крыльце выросла могучая Устинья.
Тут и третий, долговязый, сигареткой у мотоциклета до этого попыхивающий, осклабился, залопотал чего-то, залопотал, разухмылялся, скотина иноземная, и – к Устинье! Тот, видать, еще ходок: подскочил к лесничихе, лапнул обеими руками за тяжелые груди. Вот тут-то она долго и не думала. Влепила ему промеж глаз – немец так и прокинулся! А другой-то порося бросил да от пояса из своего диковинного антомата-то по Устинье и резанул!
Все произошло столь быстро и неожиданно для Крюкова, что даже обмочился он малость, с кукорок на задницу бухнувшись в своем еловом укрытии. Тяжеленным обухом колуна по ноге съездило – не почувствовал! Обмер, как кондратием разбило!
И не видел, как очухался долговязый, как выскочил с решетом, полным яиц, из курятника последний из троицы немчуров. Только и слышал, трясясь от ужаса, как непрошеные гости, гремя и швыряя всем подряд, перетрясли всё в доме. Потом снова затарахтел мотоциклет, и немцы укатили.
Федор еще долго сидел в ельнике. После, опасливо озираясь, выполз на карачках оттуда, боком-боком обошел убитую, сноровисто набил в мешок разбросанные в избе по полу караваи хлеба, нагреб в подполе картошки, нашел за печкой соль в тряпице. Озираясь и прислушиваясь, выскользнул из избы во двор, подался уже было к лесу, но, вспомнив, вернулся, подошел к лесничихе. Стараясь не глядеть в лицо и на залитую кровью грудь Устиньи, задрал цветастую оборчатую верхнюю юбку и, путаясь трясущимися руками в подоле нижней, отыскал на ней карман с двумя коробками спичек. Один был полон, в другом громыхало всего несколько штучек. Крюков досадливо покачал головой…
От хутора он отошел в глубину леса версты на полторы. Облюбовал укромный уголок подле ручья на взлобке, меж двух давным-давно рухнувших могучих сосен. Лопату с собой тоже ведь захватил.
И принялся углублять, разрывать яму, оставшуюся на месте вывороченных корней одного из повалившихся деревьев. Так и обустроил себе полуземлянку, провозившись весь день дотемна. Вспомнив свой небольшой таежный опыт, обустроил тайничок для продуктов, чтобы всякая мелкая живность не попортила припасы, наломал лапника. Уработавшись, спал первую ночь, как убитый. Утром разбудила резким криком какая-то птица, заставив вскочить в нервном перепуге. Но вокруг было покойно. Федор развел небольшой костерок под шатром разлапистой пихты, чтобы не выдать себя дымом, согрелся чаем, напек картошки.
Первую неделю он обратно на хутор не совался, хотя очень хотелось обратно – в немудреный уют лесничихиного дома, в тепло. Изба на хуторе казалась раем, особенно по сравнению с нынешним обиталищем. А потом прихваченный при бегстве харч иссяк – поневоле надо было навестить дом Устиньи. Да и лоскутное одеяло с тюфяком и подушкой не помешало бы, кое-что из посуды тоже. Единственный раз Федор вспомнил убитую лесничиху с тоской: за примачество кормила щедро. Перед глазами встала огромная чугунная сковорода со скворчащей салом яишней, толстые ломти хлеба, кринка с густым молоком.
Бог ты мой! Да как же он со страху запамятовал-то! Куры, корова недоеная! Умная у лесничихи буренка: после утренней дойки Устинья отпускала ее на свободный выпас, та привычно бродила вокруг хутора до вечера, а потом послушно возвращалась домой.
Федор заткнул за сыромятный ремень, которым опоясывал добротный, хотя и несколько коротковатый кожушок, доставшийся «в наследство» от покойного лесника, острый плотницкий топорик – его тоже не забыл, убегая с хутора, – схватился было за черенок лопаты, но вспомнил, что на хуторе есть еще две, в стайке.
Страшил предстоящий поход на хутор, страшила, но все-таки была необходимой предстоящая процедура погребения трупа лесничихи. Но больше Федор был озабочен другим: как и где ему без помех разделать корову, как без потерь сохранить весь мясной продукт. Понятное дело, что по ночам уже морозец прихватывает, до полудня закраины на лужах не отходят, но для мяса это – тьфу. Засолить бы, да нечем – сольцы в обрез, горсточка. Оставалось, как подумалось Федору, только одно: сварить все, что можно, а потом закоптить. Но вот как это проделать, чтобы себя-то не выдать дымом и обширным кухарничеством?
Тяжесть предстоящих хозяйственных хлопот Федора Крюкова на себя взяли другие. Опередили, волки позорные! Немецкая сволота или деревенские говнюки – хрен их знает! Те и другие, скорее всего, – кость им в глотку! От коровы во дворе осталось побуревшее огромное пятно, в котором валялись обрубки копыт и еще какие-то жалкие ошметья. Курей, понятно, тоже не было. Подполье в доме подчищено до последней гнилой бульбы. Голым-голо на полках в избе, никакого тюфяка и подушек на печи, занавесок на окнах, домотканой дорожки на полу в горнице. От кадушки с квашеной капустой и деревянной бадейки с солеными огурцами в сенках – только два круга на пыльных плахах затоптанного пола.
По выстуженной избе, с расхристанными настежь дверьми, гулял пронизывающий сквозняк, противно позванивая обломками стекла в ближнем к крыльцу оконце: одна из пуль, предназначенных строптивой лесничихе, угодила в стеколку, а закончила полет, расколов маленькую, с ладонь, черную от времени иконку, висевшую подле двух образов в переднем углу горницы.
Образов тоже не было, а расщепленные половинки иконки валялись под лавкой. Крюков, кряхтя, поднял их, приложил к друг другу, потом сунул в карман.
Потерянно обошел весь хутор, заглянул в каждый угол. Окончательно убедился, что побывали здесь опосля и немцы, и местные. Коровенку, курей – это немчуры сгребли, а остальное барахло – вряд ли. С такой крестьянской основательностью только деревенские живоглоты все могут подчистить. Они!
Но зато и лесничиху закопали.
Крюков наконец-то увидел просто, но аккуратно прибранную могилу, обложенную у основания полосой серых голышей. Холмик венчал небольшой, старательно вытесанный крест с прибитой к нему дощечкой, на которой было выцарапано: «Поволяева Устинья. XI-1941».
Федор несколько минут постоял у могилы, потом пошел в избу, оторвал висевший за косяком кухонного оконца на бечевочке огрызок карандаша, вернулся и нацарапал на дощечке под крестом число. Не целый же месяц убивал немец Устинью. Мгновения хватило прекратить жизнь в крепком женском теле.
Федору вдруг – ни к месту, но до того, что аж заныло в паху, – вспомнились жаркие ночные ласки лесничихи, ее ненасытность. Он вздрогнул, нашарил в кармане обломки черной иконки и, снова сложив их, вдавил в уже прихваченную морозом глину под могильным крестом.
И тут – как Господь наградил! – торкнуло в плешивую башку! Как запамятовал-то?! В стайке, под слегами в углу – основательно, с утеплением на зиму, еще небось бывшим хозяином оборудованный гурт! С запасом брюквы для скотины!
Федор ринулся к сарайчику. Нетронутым оказался схрон с брюквой! Проглядели местные!
На этой самой брюкве, на редкой мелкой лесной живности, иногда попадавшейся в неумелые силки, расставленные Федором вокруг его лесного логова, протянул он до февраля. А там мочи уже не осталось совсем, и промерзший, завшивевший Федор Крюков приплелся в деревню.
Сдался в немецкую комендатуру, заявив о готовности служить новому порядку. Подсыпали ему немцы, помолотила от души местная полицайская сволота, увезли после в городишко, в гестапо. Там тоже особо не церемонились, выхлестав несколько зубов на допросах, но после смилостивились: определили в ту же деревню на службу в местную полицай-команду. По первости под жестким доглядом старшего полицая Степана Михановского уборные чистить и в конюшне полицайской вкалывать – навоз грести.
Только через несколько месяцев получил Федор черный мундир, белую повязку полицая и тяжелую немецкую короткоствольную винтовку «манлихер». Так и стал Федор Крюков полицаем, а еще негласным осведомителем остбургского гестапо. Осенью сорок второго отличился: поймал двух блуждавших, как он когда-то, измученных красноармейцев. Вскорости повысили до старшего полицейского, после чего Крюков уверовал в прочность своего положения, а после осторожных расспросов новоприобретенных деревенских знакомых из числа некогда его же лупивших сослуживцев, положил окончательно глаз и на вожделенный хутор убитой лесничихи. И принялся потихоньку наводить там порядок, время от времени, все чаще и чаще, наезжая туда в свободное от службы время.
Вот и в этот день, по скрипящему под полозьями свежему снежку довольный Крюков возвертался в деревню на легких санках – предмете своей особой гордости. Денек на хуторе провел с пользой – закончил возиться с печью, пробную топку устроил – красота!
Но все три версты до выезда на шоссе округу прослушивал настороженно, винтовку под рукой держал с загнанным в патронник патроном. Еще бы! Начальник полицай-команды Михановский поутру собрал всех и свистящим шепотом, страшно вращая глазами, выдал установку на повышенную бдительность: из лагеря под Остбургом был побег, где-то в лесу шарахается вторые или третьи сутки один придурок. «Засекретились тоже, чертовы гансы! – матерился, еще больше принижая голос, начальник Степан. – Нет, чтобы сразу оповестить!» – «Да его уже волки сожрали! – лениво откликнулся кто-то. – Или замерз. Чай, не лето…» – «Молчать, уроды! – уже не сдерживаясь, проорал Михановский. – Ушки на макушке, зыркать по округе! Команда выдана искать со всей тщательностью! Сам шеф городского гестапо награду сулил, ежели кому подфартит! Оно как!» – «Видать, важну птицу прощелкали…» – «Цыц, пся крев! Рыскать!»
Ага, все прямо так и кинулись. Это в чистом поле да в спокойном лесе охоту устраивать – забава. А когда за каждым кустом партизан чудится… И еще бы только чудился… Деревенские полицаи себя более-менее вольготно чувствовали лишь по одной причине: небольшой, но до зубов вооруженный немецкий гарнизон обосновался в деревне. Почему-то выбрали ее немцы опорным пунктом, оборудовали в бывшем сельсовете комендатуру, в бывшем клубе – казарму на полуроту при двух бронетранспортерах.
А партизаны на шоссе пакостили. Нет-нет да и грохнут армейскую колонну, правда, самый ближний налет был верстах в двадцати от деревни, но чем черт не шутит. И все-таки лишний раз надо бы поостеречься, подумалось Крюкову, не частить с поездками на хутор.
С этими мыслями и выскочил из-за поворота – прямо на сотрясающегося в приступах кашля человека в заиндевелом замурзанном ватнике с прописанном хлоркой номером во всю спину. И всё как-то само собой получилось: скакнул из санок да и хватил недоумка прикладом по загривку. Так и бухнулся, падла, мордой в санную колею.
Федор обыскал жертву. Ничего. Никакого оружия. Вообще ничего. Доходяга. Сомнений не было – тот самый. Которого ищут. Важна птица!.. Молодой, однако, для важной птицы. Дохляк!
Крюков замер в раздумье. Упереть добычу в деревню в комендатуру? А как и в сам-деле ценный фрукт? Напыщенный обер-лейтенант из комендатуры обещанную награду, ежели Степка не соврал, и получит, а ему, Федору, кукиш под нос сунут. Что делать-то? А ежели так…
ГЛАВА 6. РЕНИКЕ
Пять стремительных белых фигур – новая напасть, взметнувшая снегириную стайку на вершину ольхи. Белые лыжники появились из-за густого ельника и, внезапно наткнувшись на глубокую борозду в снегу, резко свернули к вырвавшейся на белое поле ольхе. Трое настороженно присели у кромки кустов, потянув из-за спин обмотанные бинтами автоматы, а двое, еле слышно щелкнув предохранителями на оружии, скользнули к черной фигуре, распластавшейся на снегу у ольхи. Один из лыжников опустился на колено, осторожно тронул у лежавшего слипшиеся, скованные бурыми льдинками волосы, потом медленно перевернул человека на спину, подсунув под голову сдернутую с руки армейскую трехпалую рукавицу. Быстро расстегнул бурый ватник, на несколько мгновений прижал ладонь к телу, потом нащупал артерию на шее. Обернувшись, утвердительно кивнул напарнику.
Бережно перевернул не приходящего в сознание человека снова лицом вниз, вынул из-под маскомбинезона перевязочный пакет. Напарник поднял над головой руку, показывая два пальца. От кустов тут же отделились еще двое лыжников. Тоже из-под маскировочных комбинезонов они выхватили тесаки, быстрыми и точными движениями рубанули под корень по тонкой березке, потащили их к ольхе, на ходу зачищая гибкие стволы от веток. Перевязка не заняла и минуты. Неподвижную черную фигуру тонким и прочным шнуром, под плечи и за ноги примотали к импровизированным березовым полозьям, комли которых выступали нал головой найденного человека подобием длинных ручек носилок, а тонкие, во множестве мелких веточек, концы березовых стволов упирались в снег ниже бурых войлочных бахил метра на полтора. Двое лыжников сдернули человека-санки с места и покатили вдоль опушки, по кромке поля, к чернеющему впереди лесу. Чуть поодаль, меж кустов и деревьев, впереди этой пары лыжников, со странной и непонятной для постороннего глаза поклажей, заскользил, переведя автомат на грудь третий из пятерки, а двое последних, приотстав, прикрыли товарищей сзади.
***
Собачий лай за окном взвился до остервенения. Гауптштурмфюрер Ренике недовольно поднялся из кресла.