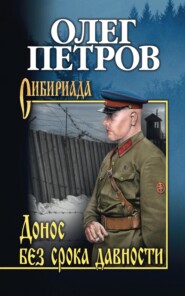По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Снегири на снегу (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Куды с добром! В самое громыхалово притартали, высадили ночью на каком-то полустанке, потом до утра пешедралом гнали прямиком на сполохи и канонаду. Утром горячей кашей накормили в жидком лесочке, потом занятия были. Усталый старшина разобрал и собрал винтовку, часок покумекали над устройством затвора и устранением перекоса патрона, потом строго по три патрона каждый выпустил в ростовую мишень, несколько раз сбегали в атаку, с остервенением всаживая на условном вражеском рубеже трехгранные штыки в рогожные кули с соломой. И был гуляш на обед, и был суп с перловкой, а после обеда раздали паек: по кирпичу хлеба, паре увесистых банок с тушенкой, по четыре брикета горохового концентрата, по два фунта черных квадратных ржаных сухарей, по полфунта кускового сахару и по три пачки махорки. Выдали алюминиевые котелок с крышкой, ложку и фляжку, которую тут же приказали наполнить водой из питьевой бочки. Напоследок каждый расписался за винтовку, подсумок с пятью обоймами тускло блеснувших патронов, малую саперную лопатку и каску. Шинели приказали туго скатать по образцу и надеть через плечо, а продовольствие сложить в вещмешки.
Потом пришли немолодой политрук в очках и такой же немолодой военфельдшер. Первый раздал всем черные тюбики и приказал заполнить по длинной узкой бумажке: фамилия, имя, отчество, когда родился, откуда родом… Бумажку требовалось свернуть в трубочку и засунуть в черный тюбик, крышечку у него туго закрутить и – в карман гимнастерки. Строго-настрого наказал, чтобы всегда при каждом этот тюбик был. Федору слово это чудное запало: «тюбик»! Ранешне и не слыхал такого. Ученые они, эти политруки! А кто-то из бойцов пробурчал, что лучше вообще этой чертовой вещицы не иметь. Мол, дурная примета. Медальон смерти… Только тут до Федора и дошло назначение «тюбика». Эва оно как! Тогда первый раз и затрясло.
А военфельдшер раздал всем по небольшому свертку с ватой и бинтом. Индивидуальный перевязочный пакет называется. И немногословно добавил: «Царапнет – не маленькие, разберетесь, как самому себя или друг дружку перевязать…»
Ближе к вечеру снова накормили кашей, в которой попадались волокна тушенки, напоили сладким жидкозаваренным чаем. Кое-кто принялся распечатывать выданный продпаек, но прилетел черноусый и злой старшина, орал и грозил трибуналом.
Потом на полуторке приехали командиры-офицеры. Объявили построение, разбили на роты и взвода. Злой черноусый старшина оказался для Федора и еще трех десятков бойцов их комвзвода Фирсовым, а коренастый, русоволосый, немногословный молодой парень с двумя кубиками в петлицах – их командиром роты лейтенантом Дреминым.
Комвзвода выдал каждому по красноармейской книжке и дал команду разойтись, перекурить. После перекура всех построили заново. Тут Федор в первый и последний раз увидел командира батальона, капитана Ермоленко. В подступающих сумерках хором приняли присягу на верность трудовому народу, расписались в разграфленном листе. После сыграли отбой. Спали вповалку, на душистом сене под навесами из жердей, покрытых кусками новенького брезента.
Федор долго не мог уснуть, вслушиваясь в далекие орудийные раскаты и отблески нервных зарниц на низких облаках, теснящихся на западе. А когда забылся в тревожном сне, показалось, что продлился он всего пару минут. Было темно.
– Подъем! Подъем! Стройся! Поживее, мать вашу!
В лагере царило нехорошее оживление. Казалось, им пронизан весь воздух. Строили поротно.
– Товарищи бойцы! Противник прорвал наши укрепления превосходящими силами. Нам приказано выдвинуться…
В общем, обновили сапоги. В зыбком и зябком утреннем тумане песчаная лесная дорога вывела на опушку, а потом на гречишное поле. Прозвучавшая команда «Стой! Окопаться!» многим показалась музыкой: ноги во время ночного марша снесли в кровь. Командиры взводов разметили позиции, схватились за лопатки и сами, одновременно подторапливая бойцов. Но многие прежде с облегчением сдернули сапоги, разложили по траве и гречихе портянки.
– Вы чего творите, чурбаны стоеросовые?! Обуться, приступить к оборудованию одиночных окопов для стрельбы лежа! – орал уже изрядно перемазанный землей старшина Фирсов и размахивал лопаткой. – Дурьи бошки свои прячьте и задницы, а не на копыта дуйте!
Туман поднялся через час-полтора. Взвод продолжал долбить кусок гречишного поля и лесную опушку, углубляя окопчики до глубины, предусмотренной, со слов лейтенанта Дремина, наставлением по саперному делу для стрельбы с колена.
– Глянь, мужики! Ероплан-то какой диковинный! – восторженно заорал кто-то слева. Все побросали работу и жадно зашарили глазами по небу. Нашел диковину и Федор.
Черная, с раздвоенным хвостом, воздушная машина высоко и оттого, наверное, казалось, медленно, проползла на северо-восток, потом вернулась обратно, сделала ленивый круг над головами и так же неторопливо удалилась на запад, еле слышно рокоча моторами.
– Это чо такое было? Сроду такого самолета не видывал! А ты? – удивленно спросил Федор парня из соседней ячейки, как называл окопчики старшина Фирсов.
– Но, братка, тут и кумекать неча. Немчура на разведку прилетала!
– Да ты чо!
– Вот тебе и чо! Милка: «Чо?», а я: «Ни чо! Поцалую горячо!». Немчура!!
Парень оторвался от работы, вылез из окопчика и оказался двухметровым богатырем. Так и познакомился Федор с Тимкой. Тогда-то и узрел Тимоха у Федора финский нож, которым тот вспорол банку с тушенкой, устав терпеть голодуху после ночного марша, перешедшего в срочные землеройные работы. И сменялись на сахар. До сладкого Федор всегда был большим любителем.
Тимку-забайкальца убило через час. Зазря, выходит, он свою ячейку чуть ли не до полного профиля углубил. В жизни вообще многое зазря делается.
Вначале где-то далеко послышалось ровное гудение. Оно нарастало, а потом превратилось в уже отчетливое тракторное тарахтение. Потом оно прервалось быстро нарастающим шелестящим звуком, перекрывающим далекие негромкие хлопки. Что-то истошно прокричал из своей ячейки Фирсов, но Федор не понял. Он приподнялся, глядя на старшину, и тут же соседний, Тимкин, окопчик с бешеным ревом вздыбился! Тугая, как транспортерная лента на элеваторе, обжигающая и едко воняющая какой-то химией волна ударила Федора в бок и вмяла в дно окопа, в одно мгновение с головой завалив землей!
…Когда Крюков пришел в сознание, он увидел перед собой грязное от земли и копоти лицо Фирсова, который шевелил губами и протягивал флягу. Федор попытался шевельнуться, но у него тут же каруселью закружилась голова, и все внутренности мгновенно вывернулись наружу горячей рвотой. Потом вроде бы стало полегче. Но голова раскалывалась, болело все тело. Оказалось, что он стоит на коленях на плешине непонятно зачем свежевспаханной и хорошо пробороненной земли, ноздри как-то отстраненно уловили смолистый дух лесного костра… Но гул… Бездонный мощный гул, наполненный одновременно оглушающим свистом и бухающим в темя дурным колокольным звоном. Словно Федора затолкали внутрь огромного колокола, по которому непрерывно ударяет чудовищное било. Что же это за пытка?! За что?! Откуда?!
Крепко затыкая обеими руками уши, Федор попытался поднять глаза. Это у него получилось не сразу. Фирсова рядом уже не было. Никого рядом не было. С трудом переведя взгляд чуть дальше, Крюков увидел прежнее гречишное поле. Оно появлялось и исчезало в рваных просветах белесо-голубого дыма. Медленно поворачивая голову, Крюков захотел проследить, откуда так сильно тянет этот дым. Что же это горит такое? Наконец он увидел: горели сосны на опушке. «Вот он откуда, смоляной запах костра, – равнодушно подумалось Федору. – Но что так гудит и свистит?»
Он неимоверным усилием принялся поворачивать голову в другую сторону, даже, как ему казалось, помогая себе обеими руками, по-прежнему прижатыми к ушам. Взгляд медленно пополз влево, туда, где – Федор вспомнил! – был окопчик Тимки. Но там не было никакого окопчика, только аккуратная круглая яма с таким же аккуратным бортиком-венчиком по всей окружности.
Вдруг из этой ямы высунулся старшина Фирсов и что-то зло прокричал Федору, одной рукой, с зажатой в ней винтовкой, тыча вперед, а другой резко взмахивая – сверху вниз, сверху вниз. Крюков так и не понял, что означает этот жест, но вперед посмотреть попытался. И – одеревенел! Даже боль в голове, показалось, исчезла.
Прямо на них медленно ползло пятнистое невиданное чудище. Вот оно приостановилось, неторопливо повело чуть в сторону длинной и тонкой трубой с набалдашником на конце, – и вдруг из этого набалдашника изрыгнулась ослепительная вспышка пламени и дыма. Танк! Так это и есть танк! Федор впервые увидел страшную боевую машину. Невероятный ужас охватил Крюкова. Бог ты мой, да как же устоять-то перед таким чудищем!
Федор машинально опустил руки, загребая руками землю вокруг себя. Совершенно ничего не соображая, вцепился во что-то, опрокидываясь на спину, по-кошачьи перевернулся на бок, вскочил на ноги и – откуда взялись силы! – что есть мочи ринулся в спасительные кусты на лесной опушке, не обращая внимания на ревущий вокруг огонь набирающего мощь лесного пожара.
…Ему показалось, что бежал он долго и убежал от места страшной встречи довольно далеко. Как потом выяснилось, всего-то метров триста ломился лосем через кусты. С исхлестанным ветками лицом, с безумно горящими глазами, с текущей из ушей кровью: разорвавшийся рядом снаряд, накрывший Тимку – забайкальского гурана, сильно контузил Крюкова. И не сам остановился посреди лесных зарослей. Остановил небольшой овражек, на дне которого сверкал неторопливый ручеек, полуприкрытый уже начавшими желтеть листьями лопуха. Федор с разбега, потеряв опору под ногами, кубарем полетел вниз, в холодную воду.
Вскоре в овражке оказались еще несколько бойцов, а потом появились чумазые лейтенант Дремин и старшина Фирсов, как ребенка баюкающий кое-как замотанную бинтами правую руку.
Слух к Федору начнет возвращаться только к концу вторых суток. Тогда-то он и узнает подробности своего первого и последнего боя: о танковой атаке, о бестолковой перестрелке с немецкой пехотой и минометном залпе, разметавшем остатки ротной обороны. Загоревшийся лес, быстрая победа над оборонявшимися, – а может, еще какие-то свои причины были у немцев, но преследовать беглецов они не стали. Послав несколько веерных пулеметных очередей в глубину леса, через пламя и дым, посадили пехоту на танки и в гробообразные полугусеничные бронетранспортеры и, собравшись в походную колонну, проселочной дорогой вдоль опушки резво подались к шоссе.
Лейтенант Дремин в опустившихся сумерках с группой бойцов сделают-таки ходку к месту боя, отыщут несколько винтовок и подсумков с патронами, пару вещмешков с продуктами. А Федор-то, оказывается, ухватил намертво, загребая руками землю при виде немецкого танка, лямку собственного вещмешка! Правда, из всего пайкового обилия харчей в нем после суматошного бегства, а может, еще раньше, при разрыве снаряда, продуктишек уцелело с гулькин нос.
Этот жалкий запасец и жег Крюкову спину, когда лейтенант делил последние сухари. И за кустом на шестые сутки окружения присел Федор не по нужде, а схрумать сахару кусок. Вспомнился тут же Тимка-забайкалец…
И дозрела у Федора мысль, возникшая, как теперь ему казалось, давным-давно, в какой-то иной, совершенно другой жизни. До полного отчаяния, до животного крика захотелось жить, досыта есть и пить, спать в мягкой теплой постели. Жить, жить, жить!!! Какой же он маленький на этой огромной земле, среди этого хаоса смерти, огня, войны! И зачем она ему, война? Чтобы вот так же, как это случилось с Тимкой, разнести в клочья и его, Федора, его исстрадавшееся по отдыху, сну, теплу и жратве тело? Не-е-ет… Нет! Нет!! И нет!!! Он и в самом деле маленький и незаметный на этой огромной земле. Он спрячется, он тихо и терпеливо подождет. До лучших времен. Он терпелив.
Крюков стянул с головы грязную, пропотевшую пилотку. Новенькая, бравая была. Перед боем, надев каску, сунул пилотку в вещмешок – потому и уцелела. А каску то ли сразу же тогда, взрывной волной, сорвало, а может, и после, когда его Фирсов откапывал, с головы она свалилась, ремешок-то Федор не застегивал. За шесть суток блуждания по лесу пилотка свой шик потеряла, а вот звездочка эмалевая – как новенькая.
Крюков, обдирая кончики пальцев, зло выдрал звездочку из ткани, вдавил сапогом в хвою. Шабаш, повоевали!
ГЛАВА 5. КРЮКОВ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Хутор… Да…» Теперь он вспомнил. От шоссе подался к западу, скрываясь за кустами и густым ельником, но дорогу слушал, стараясь далеко от нее не удаляться. День шел на убыль, нарастала тревога: в заснеженном лесу встречать ночь, в заледенелой одежде, которая не сохла даже на пышущем жаром теле…
Человек с тоской подумал, что ручей, оказавшийся столь спасительным от собак, наверное, подписал-таки ему смертный приговор. Тряс озноб, из хрипящей груди то и дело рвался выворачивающий, надсадный кашель, который приходилось вбивать обратно, зажимая полопавшиеся и сочащиеся сукровицей губы рукавом: кашель казался человеку оглушительным, многократным эхом, гулко разлетающимся по тихому лесу. Его могут услышать на шоссе. Если не люди, так собаки, их чуткие натренированные уши. И человек продолжал брести меж кустами, прикрываясь ельником, проваливаясь по колено в снег, то и дело останавливаясь и вслушиваясь, вслушиваясь в лесную тишину…
Он замирал, падая на колени, если в эту тишину вдруг вплетался звук автомобильных моторов на шоссе. И снова, тяжело подымаясь, брел по глубокому снегу, выискивая глазами путь потверже…
Тихий снегопад незаметно прекратился, небо меж верхушек деревьев разъяснилось, косые тени от деревьев, удлиняясь, все больше и больше разворачивали свои острия навстречу…
Человек вновь и вновь мысленно пытался проследить свой путь от ручья. Разламывающая голову боль мешала этому. И все-таки по всему выходило, что где-то впереди, неподалеку, должна лежать нужная деревенька. А в ней…
В ней требовалось отыскать второй от околицы дом на восточной оконечности единственной деревенской улочки. Найти, но не торопиться. Оглядеться, дождаться темноты и, не привлекая внимания, задами пробраться к оконцу, выходящему в огород. В стеколку четыре раза сдвоенными ударами постучаться. Выглянет женщина, лет пятидесяти. Ей надо сказать… Черт, как же разламывается голова… Что же ей надо сказать?.. Так… по порядку… А сказать ей надо: «Хозяюшка, будь ласка, приюти до утра пацана. Околел, как цуцик, Васька Мятликов…» Именно так сказать, не иначе… Смеялись еще, придумывая условные слова. В русле этой, как ее… легенды. Да, легенды…
Машинный шум на шоссе стих окончательно. Хорошо. Так и должно было быть. В ночное время немцы движение прекращали, забираясь в опорные пункты. Ночью они не вояки…
Неожиданно путь пересекла лесная дорога, уводящая укатанный санный след от шоссе в глубь леса. Человек обрадовался. Дорога могла свидетельствовать только об одном: человеческое жилье неподалеку. Наверное, та самая деревенька. А этой дорогой местные, скорее всего, в лес ездят – за дровами, а летом по грибы и другим надобностям, мало ли зачем…
Человек вышел на дорогу, внимательно рассматривая санную колею. Кто-то уже проезжал здесь после снегопада. Снова подступил приступ рвущего горло и грудь огнем кашля. Человек согнулся, прижимая ко рту грязный рукав ватника, затрясся всем телом. Молотом било в виски, в унисон непрекращающимся накатам кашля…
Наверное, поэтому человек не услышал, не почувствовал, не увидел, – где-то внутри, к тому же успокоенный наступившим на шоссе затишьем, – как из-за поворота лесной дороги к нему вплотную подкатили легкие одноконные сани, с них резво метнулась черная фигура. Молот в очередной раз ударил уже не в виски, а словно расколол голову на две половинки…
***
…Негромко затрещали сучья. Крюков, распластываясь на хвое, ужом занырнул под низкие и густые, разлапистые ветки исчерна-изумрудной пихты-громады, слился с обомшелым стволом.
– Федор! Федо-ор! – его негромко позвали. – Федор, Крю-ков!.. Куда подевался?.. Надо идти, Фе-о-дор!..
Потом пришли немолодой политрук в очках и такой же немолодой военфельдшер. Первый раздал всем черные тюбики и приказал заполнить по длинной узкой бумажке: фамилия, имя, отчество, когда родился, откуда родом… Бумажку требовалось свернуть в трубочку и засунуть в черный тюбик, крышечку у него туго закрутить и – в карман гимнастерки. Строго-настрого наказал, чтобы всегда при каждом этот тюбик был. Федору слово это чудное запало: «тюбик»! Ранешне и не слыхал такого. Ученые они, эти политруки! А кто-то из бойцов пробурчал, что лучше вообще этой чертовой вещицы не иметь. Мол, дурная примета. Медальон смерти… Только тут до Федора и дошло назначение «тюбика». Эва оно как! Тогда первый раз и затрясло.
А военфельдшер раздал всем по небольшому свертку с ватой и бинтом. Индивидуальный перевязочный пакет называется. И немногословно добавил: «Царапнет – не маленькие, разберетесь, как самому себя или друг дружку перевязать…»
Ближе к вечеру снова накормили кашей, в которой попадались волокна тушенки, напоили сладким жидкозаваренным чаем. Кое-кто принялся распечатывать выданный продпаек, но прилетел черноусый и злой старшина, орал и грозил трибуналом.
Потом на полуторке приехали командиры-офицеры. Объявили построение, разбили на роты и взвода. Злой черноусый старшина оказался для Федора и еще трех десятков бойцов их комвзвода Фирсовым, а коренастый, русоволосый, немногословный молодой парень с двумя кубиками в петлицах – их командиром роты лейтенантом Дреминым.
Комвзвода выдал каждому по красноармейской книжке и дал команду разойтись, перекурить. После перекура всех построили заново. Тут Федор в первый и последний раз увидел командира батальона, капитана Ермоленко. В подступающих сумерках хором приняли присягу на верность трудовому народу, расписались в разграфленном листе. После сыграли отбой. Спали вповалку, на душистом сене под навесами из жердей, покрытых кусками новенького брезента.
Федор долго не мог уснуть, вслушиваясь в далекие орудийные раскаты и отблески нервных зарниц на низких облаках, теснящихся на западе. А когда забылся в тревожном сне, показалось, что продлился он всего пару минут. Было темно.
– Подъем! Подъем! Стройся! Поживее, мать вашу!
В лагере царило нехорошее оживление. Казалось, им пронизан весь воздух. Строили поротно.
– Товарищи бойцы! Противник прорвал наши укрепления превосходящими силами. Нам приказано выдвинуться…
В общем, обновили сапоги. В зыбком и зябком утреннем тумане песчаная лесная дорога вывела на опушку, а потом на гречишное поле. Прозвучавшая команда «Стой! Окопаться!» многим показалась музыкой: ноги во время ночного марша снесли в кровь. Командиры взводов разметили позиции, схватились за лопатки и сами, одновременно подторапливая бойцов. Но многие прежде с облегчением сдернули сапоги, разложили по траве и гречихе портянки.
– Вы чего творите, чурбаны стоеросовые?! Обуться, приступить к оборудованию одиночных окопов для стрельбы лежа! – орал уже изрядно перемазанный землей старшина Фирсов и размахивал лопаткой. – Дурьи бошки свои прячьте и задницы, а не на копыта дуйте!
Туман поднялся через час-полтора. Взвод продолжал долбить кусок гречишного поля и лесную опушку, углубляя окопчики до глубины, предусмотренной, со слов лейтенанта Дремина, наставлением по саперному делу для стрельбы с колена.
– Глянь, мужики! Ероплан-то какой диковинный! – восторженно заорал кто-то слева. Все побросали работу и жадно зашарили глазами по небу. Нашел диковину и Федор.
Черная, с раздвоенным хвостом, воздушная машина высоко и оттого, наверное, казалось, медленно, проползла на северо-восток, потом вернулась обратно, сделала ленивый круг над головами и так же неторопливо удалилась на запад, еле слышно рокоча моторами.
– Это чо такое было? Сроду такого самолета не видывал! А ты? – удивленно спросил Федор парня из соседней ячейки, как называл окопчики старшина Фирсов.
– Но, братка, тут и кумекать неча. Немчура на разведку прилетала!
– Да ты чо!
– Вот тебе и чо! Милка: «Чо?», а я: «Ни чо! Поцалую горячо!». Немчура!!
Парень оторвался от работы, вылез из окопчика и оказался двухметровым богатырем. Так и познакомился Федор с Тимкой. Тогда-то и узрел Тимоха у Федора финский нож, которым тот вспорол банку с тушенкой, устав терпеть голодуху после ночного марша, перешедшего в срочные землеройные работы. И сменялись на сахар. До сладкого Федор всегда был большим любителем.
Тимку-забайкальца убило через час. Зазря, выходит, он свою ячейку чуть ли не до полного профиля углубил. В жизни вообще многое зазря делается.
Вначале где-то далеко послышалось ровное гудение. Оно нарастало, а потом превратилось в уже отчетливое тракторное тарахтение. Потом оно прервалось быстро нарастающим шелестящим звуком, перекрывающим далекие негромкие хлопки. Что-то истошно прокричал из своей ячейки Фирсов, но Федор не понял. Он приподнялся, глядя на старшину, и тут же соседний, Тимкин, окопчик с бешеным ревом вздыбился! Тугая, как транспортерная лента на элеваторе, обжигающая и едко воняющая какой-то химией волна ударила Федора в бок и вмяла в дно окопа, в одно мгновение с головой завалив землей!
…Когда Крюков пришел в сознание, он увидел перед собой грязное от земли и копоти лицо Фирсова, который шевелил губами и протягивал флягу. Федор попытался шевельнуться, но у него тут же каруселью закружилась голова, и все внутренности мгновенно вывернулись наружу горячей рвотой. Потом вроде бы стало полегче. Но голова раскалывалась, болело все тело. Оказалось, что он стоит на коленях на плешине непонятно зачем свежевспаханной и хорошо пробороненной земли, ноздри как-то отстраненно уловили смолистый дух лесного костра… Но гул… Бездонный мощный гул, наполненный одновременно оглушающим свистом и бухающим в темя дурным колокольным звоном. Словно Федора затолкали внутрь огромного колокола, по которому непрерывно ударяет чудовищное било. Что же это за пытка?! За что?! Откуда?!
Крепко затыкая обеими руками уши, Федор попытался поднять глаза. Это у него получилось не сразу. Фирсова рядом уже не было. Никого рядом не было. С трудом переведя взгляд чуть дальше, Крюков увидел прежнее гречишное поле. Оно появлялось и исчезало в рваных просветах белесо-голубого дыма. Медленно поворачивая голову, Крюков захотел проследить, откуда так сильно тянет этот дым. Что же это горит такое? Наконец он увидел: горели сосны на опушке. «Вот он откуда, смоляной запах костра, – равнодушно подумалось Федору. – Но что так гудит и свистит?»
Он неимоверным усилием принялся поворачивать голову в другую сторону, даже, как ему казалось, помогая себе обеими руками, по-прежнему прижатыми к ушам. Взгляд медленно пополз влево, туда, где – Федор вспомнил! – был окопчик Тимки. Но там не было никакого окопчика, только аккуратная круглая яма с таким же аккуратным бортиком-венчиком по всей окружности.
Вдруг из этой ямы высунулся старшина Фирсов и что-то зло прокричал Федору, одной рукой, с зажатой в ней винтовкой, тыча вперед, а другой резко взмахивая – сверху вниз, сверху вниз. Крюков так и не понял, что означает этот жест, но вперед посмотреть попытался. И – одеревенел! Даже боль в голове, показалось, исчезла.
Прямо на них медленно ползло пятнистое невиданное чудище. Вот оно приостановилось, неторопливо повело чуть в сторону длинной и тонкой трубой с набалдашником на конце, – и вдруг из этого набалдашника изрыгнулась ослепительная вспышка пламени и дыма. Танк! Так это и есть танк! Федор впервые увидел страшную боевую машину. Невероятный ужас охватил Крюкова. Бог ты мой, да как же устоять-то перед таким чудищем!
Федор машинально опустил руки, загребая руками землю вокруг себя. Совершенно ничего не соображая, вцепился во что-то, опрокидываясь на спину, по-кошачьи перевернулся на бок, вскочил на ноги и – откуда взялись силы! – что есть мочи ринулся в спасительные кусты на лесной опушке, не обращая внимания на ревущий вокруг огонь набирающего мощь лесного пожара.
…Ему показалось, что бежал он долго и убежал от места страшной встречи довольно далеко. Как потом выяснилось, всего-то метров триста ломился лосем через кусты. С исхлестанным ветками лицом, с безумно горящими глазами, с текущей из ушей кровью: разорвавшийся рядом снаряд, накрывший Тимку – забайкальского гурана, сильно контузил Крюкова. И не сам остановился посреди лесных зарослей. Остановил небольшой овражек, на дне которого сверкал неторопливый ручеек, полуприкрытый уже начавшими желтеть листьями лопуха. Федор с разбега, потеряв опору под ногами, кубарем полетел вниз, в холодную воду.
Вскоре в овражке оказались еще несколько бойцов, а потом появились чумазые лейтенант Дремин и старшина Фирсов, как ребенка баюкающий кое-как замотанную бинтами правую руку.
Слух к Федору начнет возвращаться только к концу вторых суток. Тогда-то он и узнает подробности своего первого и последнего боя: о танковой атаке, о бестолковой перестрелке с немецкой пехотой и минометном залпе, разметавшем остатки ротной обороны. Загоревшийся лес, быстрая победа над оборонявшимися, – а может, еще какие-то свои причины были у немцев, но преследовать беглецов они не стали. Послав несколько веерных пулеметных очередей в глубину леса, через пламя и дым, посадили пехоту на танки и в гробообразные полугусеничные бронетранспортеры и, собравшись в походную колонну, проселочной дорогой вдоль опушки резво подались к шоссе.
Лейтенант Дремин в опустившихся сумерках с группой бойцов сделают-таки ходку к месту боя, отыщут несколько винтовок и подсумков с патронами, пару вещмешков с продуктами. А Федор-то, оказывается, ухватил намертво, загребая руками землю при виде немецкого танка, лямку собственного вещмешка! Правда, из всего пайкового обилия харчей в нем после суматошного бегства, а может, еще раньше, при разрыве снаряда, продуктишек уцелело с гулькин нос.
Этот жалкий запасец и жег Крюкову спину, когда лейтенант делил последние сухари. И за кустом на шестые сутки окружения присел Федор не по нужде, а схрумать сахару кусок. Вспомнился тут же Тимка-забайкалец…
И дозрела у Федора мысль, возникшая, как теперь ему казалось, давным-давно, в какой-то иной, совершенно другой жизни. До полного отчаяния, до животного крика захотелось жить, досыта есть и пить, спать в мягкой теплой постели. Жить, жить, жить!!! Какой же он маленький на этой огромной земле, среди этого хаоса смерти, огня, войны! И зачем она ему, война? Чтобы вот так же, как это случилось с Тимкой, разнести в клочья и его, Федора, его исстрадавшееся по отдыху, сну, теплу и жратве тело? Не-е-ет… Нет! Нет!! И нет!!! Он и в самом деле маленький и незаметный на этой огромной земле. Он спрячется, он тихо и терпеливо подождет. До лучших времен. Он терпелив.
Крюков стянул с головы грязную, пропотевшую пилотку. Новенькая, бравая была. Перед боем, надев каску, сунул пилотку в вещмешок – потому и уцелела. А каску то ли сразу же тогда, взрывной волной, сорвало, а может, и после, когда его Фирсов откапывал, с головы она свалилась, ремешок-то Федор не застегивал. За шесть суток блуждания по лесу пилотка свой шик потеряла, а вот звездочка эмалевая – как новенькая.
Крюков, обдирая кончики пальцев, зло выдрал звездочку из ткани, вдавил сапогом в хвою. Шабаш, повоевали!
ГЛАВА 5. КРЮКОВ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Хутор… Да…» Теперь он вспомнил. От шоссе подался к западу, скрываясь за кустами и густым ельником, но дорогу слушал, стараясь далеко от нее не удаляться. День шел на убыль, нарастала тревога: в заснеженном лесу встречать ночь, в заледенелой одежде, которая не сохла даже на пышущем жаром теле…
Человек с тоской подумал, что ручей, оказавшийся столь спасительным от собак, наверное, подписал-таки ему смертный приговор. Тряс озноб, из хрипящей груди то и дело рвался выворачивающий, надсадный кашель, который приходилось вбивать обратно, зажимая полопавшиеся и сочащиеся сукровицей губы рукавом: кашель казался человеку оглушительным, многократным эхом, гулко разлетающимся по тихому лесу. Его могут услышать на шоссе. Если не люди, так собаки, их чуткие натренированные уши. И человек продолжал брести меж кустами, прикрываясь ельником, проваливаясь по колено в снег, то и дело останавливаясь и вслушиваясь, вслушиваясь в лесную тишину…
Он замирал, падая на колени, если в эту тишину вдруг вплетался звук автомобильных моторов на шоссе. И снова, тяжело подымаясь, брел по глубокому снегу, выискивая глазами путь потверже…
Тихий снегопад незаметно прекратился, небо меж верхушек деревьев разъяснилось, косые тени от деревьев, удлиняясь, все больше и больше разворачивали свои острия навстречу…
Человек вновь и вновь мысленно пытался проследить свой путь от ручья. Разламывающая голову боль мешала этому. И все-таки по всему выходило, что где-то впереди, неподалеку, должна лежать нужная деревенька. А в ней…
В ней требовалось отыскать второй от околицы дом на восточной оконечности единственной деревенской улочки. Найти, но не торопиться. Оглядеться, дождаться темноты и, не привлекая внимания, задами пробраться к оконцу, выходящему в огород. В стеколку четыре раза сдвоенными ударами постучаться. Выглянет женщина, лет пятидесяти. Ей надо сказать… Черт, как же разламывается голова… Что же ей надо сказать?.. Так… по порядку… А сказать ей надо: «Хозяюшка, будь ласка, приюти до утра пацана. Околел, как цуцик, Васька Мятликов…» Именно так сказать, не иначе… Смеялись еще, придумывая условные слова. В русле этой, как ее… легенды. Да, легенды…
Машинный шум на шоссе стих окончательно. Хорошо. Так и должно было быть. В ночное время немцы движение прекращали, забираясь в опорные пункты. Ночью они не вояки…
Неожиданно путь пересекла лесная дорога, уводящая укатанный санный след от шоссе в глубь леса. Человек обрадовался. Дорога могла свидетельствовать только об одном: человеческое жилье неподалеку. Наверное, та самая деревенька. А этой дорогой местные, скорее всего, в лес ездят – за дровами, а летом по грибы и другим надобностям, мало ли зачем…
Человек вышел на дорогу, внимательно рассматривая санную колею. Кто-то уже проезжал здесь после снегопада. Снова подступил приступ рвущего горло и грудь огнем кашля. Человек согнулся, прижимая ко рту грязный рукав ватника, затрясся всем телом. Молотом било в виски, в унисон непрекращающимся накатам кашля…
Наверное, поэтому человек не услышал, не почувствовал, не увидел, – где-то внутри, к тому же успокоенный наступившим на шоссе затишьем, – как из-за поворота лесной дороги к нему вплотную подкатили легкие одноконные сани, с них резво метнулась черная фигура. Молот в очередной раз ударил уже не в виски, а словно расколол голову на две половинки…
***
…Негромко затрещали сучья. Крюков, распластываясь на хвое, ужом занырнул под низкие и густые, разлапистые ветки исчерна-изумрудной пихты-громады, слился с обомшелым стволом.
– Федор! Федо-ор! – его негромко позвали. – Федор, Крю-ков!.. Куда подевался?.. Надо идти, Фе-о-дор!..