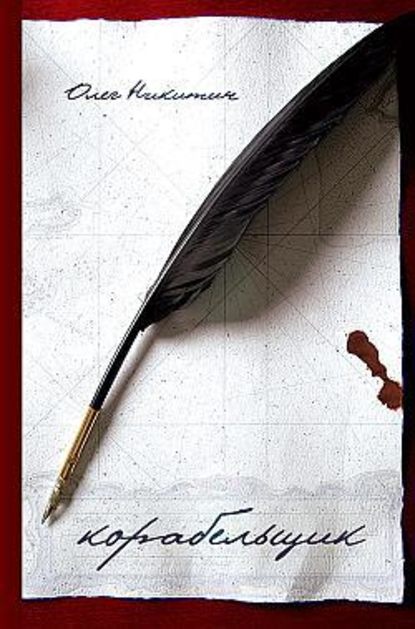По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Корабельщик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я пельменей хочу.
Дорофея ничего не ответила и сердито вытолкала детей за порог. Максим только мельком подумал, что София и так знает – между рамами нет ни кусочка мяса, так что могла бы и промолчать. Девчонка, что с нее возьмешь?
Они ссыпались с лестницы, чуть на растоптав соседку с первого этажа, которая выкатывала во двор коляску с молчаливым младенцем. Она только недавно родила и еще не совсем привыкла к своей новой, взрослой роли, а потому только вздохнула, проводив ребят завистливым и одновременно снисходительным взглядом. Правда, потом тут же склонилась к фанерной коробке на колесах и забормотала что-то невнятное, глупо улыбаясь.
А Моховая уже буквально кипела от “маленького народа”, как, впрочем, и все остальные улицы Ориена. Что-то еще днем будет, когда пройтись по последнему, серому снегу, притоптанному множеством подошв, выберутся горожане постарше!
– Плыви, пельменница! – крикнул Максим и толкнул Соньку на ледяную полосу, уже и без того полную ребят. Взвизгнув, девочка упала на какого-то парня в рваном треухе, и они с уханьем покатились вниз, к подножию улицы, где возле крутой лестницы, ведущей к пристани, образовалась внушительная гора лежалого снега.
Особой доблестью было скатиться к ней так, чтобы проскользнуть между повозкой и лошадью, если повозка была конной, или перед самым носом у механического тарантаса. Шоферы и возницы оглушительно ругались, крутили рули или натягивали вожжи, рвали тормозные рукоятки или охаживали крупы лошадей, а то и назойливых детей кнутом. Уже через четверть часа Максим не только потерял сестер и брата из виду, но успел вымокнуть и донельзя устать, да и проголодаться. Солнце поднималось все выше, и лед постепенно таял, холодной влагой проникая сквозь варежки и полы потертого тулупа.
Мальчик уж совсем было собрался идти домой, как ему встретился Ефрем.
– Привет! – вскричали они разом, наминая друг другу бока.
– Давай в упряжке, – предложил Ефрем.
– Ну давай разок, да я пойду, а то блины остынут. Поздновато ты вышел.
Они втиснулись на ледяную горку и сдвоенным тараном ринулись вниз, толкая коленками встречных и отпихиваясь от тех, кто наседал сзади. Гвалт стоял порядочный, а тут и мобиль загудел клаксоном, выруливая по Морской на перекресток. В ответ заржал какой-то пугливый конь, взметнулась снежная грязь, залепляя глаза, чей-то мокрый валенок ударил Максима в лоб, и он кувырком въехал в гору на краю лестницы. Что-то ужасно твердое наподдало ему напоследок, и по спине явно прошлись стеком.
– Ты чего дерешься? – завопил Максим, поправляя наползшую на глаза шапку.
– А вот еще не так дам! – зло крикнул шофер мобиля и тронулся дальше. Когда корма повозки отъехала, мальчик увидел на льду Ефрема, который лежал подозрительно неподвижно. Тут же в него ударилась целая толпа детей. Максим кинулся к товарищу, зацепил его за рукав и потянул на себя.
– Уф, – пробормотал Ефрем, отплевываясь. – Как я ловко под ним проскочил.
– Чемпион, – буркнул Максим. – Целый хоть?
Он бросил взгляд на правый край лестницы, где молча стояло несколько гвардейцев, один с винтовкой и остальные с пиками. Они улыбались, но в то же время зорко следили за ребятней. Одному из мальчишек уже не повезло. Судя по всему, он угодил под лошадь и сломал ногу – та подвернулась и торчала под странным углом – а потому был тут же милосердно освобожден от страданий. Его тело лежало у парапета, немного в стороне от солдат, и ждало сожжения.
Командир гвардейцев не отводил пристального взгляда от мальчишек, поглаживая винтовку.
– Пойдем-ка отсюда, – прошептал Максим. Ребята быстрым и уверенным шагом поднялись к своему дому, и по дороге Ефрем зализывал длинную, но неглубокую рану, которая протянулась через всю обратную сторону его кисти.
А на другой день, двадцать второго мая, погибла Сонька. Максим никогда не забывал эту дату, потому что в самом нижнем ящике шкафа, куда он порой заглядывал, хранилась ее метрика. Она лежала в той же картонной коробке, что и тонкая пачка пожелтевших дагерротипов – их-то, собственно, Максим и рассматривал время от времени. На одном из них были запечатлены София, мама и сам Максим, когда ему только исполнилось шесть лет. Спустя всего лишь полгода ему уже нужно было идти в школу. У всех получились самые разные выражения лиц – видимо, особое настроение так стойко владело всеми тремя, что фотографу не составило труда ухватить его. Мама, сидевшая посредине, на высоком стуле с ажурной спинкой и в длинном зеленом платье – на снимке оно вышло серым – хранила на красивом лице спокойную, ясную улыбку, слегка приправленную тревогой: а вдруг дети не выдержат неподвижности и дрогнут, смазав кадр. Хитрая, носатая физиономия Соньки светилась довольством и отчасти злорадством – она никак не могла допустить, чтобы Максим пошел к фотографу вдвоем с мамой, а ее оставили дома, без посещения таинственной полутемной лаборатории, где усатый дядя в черном долго таится за камерой, чтобы наконец выпустить из объектива яркую как Солнце птичку. Максим же, напротив, был раздосадован присутствием сестры и особенно крепко стискивал локоть матери, улыбаясь несколько через силу. В тот момент ему казалось, что день рождения безнадежно испорчен. Но по выходе от фотографа, на бурлящую от толпы Дворцовую, где их поджидал новый приятель мамы с бутылкой сахарной воды, праздничное настроение вернулось к Максиму после первого же глотка. А этот веселый и щедрый человек к тому же сказал: “Славные у тебя детишки, Мавра”, и стало совсем хорошо.
Мама сорвалась с крыши спустя год, в конце апреля.
В тот майский день Сонька примчалась из школы, бросила котомку и тут же убежала на улицу, не слушая призывов старшей сестры. Через два часа явился хмурый посыльный из муниципалитета и молча вручил Дорофее метрику с большим черным штампом “Мертв”. Рядом канцелярским почерком, чернилами была написана дата смерти Софии. А вечером пришел Ефрем и рассказал, что он случайно оказался рядом с местом действия и видел, как бестолковая девчонка съехала вниз, ударилась головой без шапки о парапет лестницы и повредила шею. Встать она не смогла, и гвардейцы в минуту освободили ее от мучений.
– Жалко, что я не успел первым, а то бы метрику-то вытащил, – укорил себя Ефрем. – Эх, пропало дармовое топливо!
– Матушка Смерть с ней, – вздохнула тогда Дорофея. – Она была хорошей девочкой, хоть и своевольной.
-9
Надо было уходить. Скоро вернутся жители ближайших домов, увидят трупы и станут судачить о воровстве, что зацвело в Ориене с началом военной кампании, словно тундра ранним летом. Потом по улицам проедут похоронные отряды, добрые жители покажут им свежих покойников, и служители матери Смерти свезут их к печам. А то и прямо тут же сожгут, если передвижной огонь, разводимый в чугунной бочке, с собой доставят. Кто знает, что взбредет всем этим людям в головы, если они увидят понурого, сидящего на мостовой гражданина.
– Извини, брат, – сказал Максим. – Я ведь не знал, что так получится. А то бы не стал тебя с пристани утаскивать. Это я виноват.
Он поднялся и бросил последний взгляд на спокойное, даже умиротворенное лицо друга, затем все же нагнулся и подобрал его пику. Носить оружие – потребность живых, мертвым оно ни к чему. “Но где же все-таки его метрика? – подумал он. – Не мог же он и в самом деле потерять ее!” Максим обвел взглядом узкое пространство тупика, однако ничего, кроме нескольких обломков кирпичей и кучи битого стекла с распластанным на ней Ефремом, не заметил. К стене на покореженных скобах крепилась старая водосточная труба, и он нагнулся, заглядывая в ее жерло. Внутри, втиснутый в щель между листами жести, белел кусок плотной бумаги, и Максим осторожно, прислушиваясь к далеким шумам, извлек его. “Ефрем Рафаилов, рожденный 14 числа 7 месяца 515 года Династии Кукшиных от Препедигны Рафаиловой… Зарегистрирован в Книге населения г. Ориена по адресу: ул. Моховая, 3в, квартира 8…” Уголок дагерротипа, обновленного только месяц назад, в июле, уже успел обтрепаться. На снимке Ефрем едва заметно улыбался – ему почему-то нравилось, как вспыхивает магний. Максим сложил метрику и затолкал ее под штанину, так чтобы она не торчала из носка.
Выйдя из проулка, он встал на колено и быстро, то и дело оглядываясь, обыскал Лупу. Ему повезло – одна из сережек провалилась в дырку в его кармане и зацепилась дужкой, не успев выпасть. И патрульный второпях пропустил ее. Желтый, многогранный камешек тускло блеснул в обрамлении белого, с черными разводами металла.
Сунув находку в кармашек, вшитый в полу куртки, Максим зашагал вверх по улице Восстания. На первом же перекрестке он свернул направо, на Моховую улицу – его дом стоял в полусотне саженей ближе к морю. Здесь уже ему стал попадаться народ – люди возвращались с полей сражения, оживленные и какие-то закопченные. Многие женщины и ребята все еще потрясали разными самодельными штучками, показывая друг другу, как они поражали врагов. Между них сновали дети помладше, те, которых не пустили на пирс, зато позволили вволю покидаться камнями. Скорее всего, от брусчатки вдоль всей набережной ничего не осталось, и половина камней вообще валяется на дне возле берега.
– Эй, Макси, ты чего не с той стороны идешь? – окликнула его очень грязная девушка одного с ним возраста – они столкнулись нос к носу при входе под свод арки, которая вела во двор их дома.
– А я другой дорогой, – пробормотал он. – Заглянул к приятелю по делу. Ты на каком фланге была, Ева? Я тебя не видел.
Ее зеленое, в мелкий грязно-белый цветочек маркизетовое платьице с оборочкой было порвано, и сквозь этот разрыв проглядывала круглая, с черным мазком коленка. Она заметила его взгляд и усмехнулась, но одергивать подол не стала. Только еще выше задрала и без того вздернутый носик, испачканный копотью. Подпаленная на кончике соломенная коса, подброшенная гибкой рукой, легла ей на плечо словно ручной уж. Помнится, в школе Максим нередко схватывался с Еванфией, и все по одному и тому же поводу. Девочка она была очень сообразительная, науки осваивала легко, не то что Максим, которому приходилось подолгу морщить лоб и пыхтеть, прежде чем ответить учителям. И в эти мучительные минуты его раздумий Еванфия, тряся поднятой рукой, нередко фыркала и шипела обидные слова “пенек” или “валенок”. Правда, только в самом начале их совместной “жизни” за одной партой. Зато во время перерывов между уроками она держала насмешки при себе, да и повода к ним не было, иначе ей наверняка пришлось бы туго. За такую роскошную косу, как у нее, очень удобно дергать.
– Какие фланги, чудак? – прыснула она, смешно кривя пухлые губы. – Напротив складов и была высадка. Пойдем, что ли, а то проход загораживаем. Ты что, ранен? – нахмурилась она, обратив наконец внимание на бурые потеки, что украшали ладони Максима.
– Я? Так, царапина, – ответил он, шагая рядом с ней в полумраке арки. – А вот Ефрем погиб. Осколок…
– Жалко… – Она заметно огорчилась, однако быстро вернула себе бодрый дух. В Еванфии было так много энергии и какого-то светлого начала, что долго кручиниться она не умела. А может быть, ей было радостно оттого, что с Максимом ничего плохого не произошло и повелительница Смерть на этот раз пощадила его. – Слушая, классная у тебя пика. Это кровь на ней, правда? – Она потрогала кусок заточенной арматуры и уважительно покосилась на товарища. – А мне пришлось какими-то камнями из мостовой кидаться. Да и то меня пацаны отогнали, не дали как следует… – Еванфия делилась впечатлениями с явной обидой в голосе. – Не очень-то и надо было! Я возле лестницы была, на парапете, а ты где? Вражеский десант видела! А ты? Я думала, они страшные будут, а вроде ничего парни, некоторые даже симпатичные, только мокрые все как котята.
– Разве? – хмуро пробормотал Максим. – Мне никто не понравился. Правильно про них на рынке говорят. Жестокие и грязные захватчики. К тому же мокрые.
Еванфия искоса взглянула на него, однако промолчала, чему-то улыбнувшись. Во дворе было непривычно тихо, только Мария, как всегда с невозможно прямой спиной и в длинном черном платье, сидела на лавочке рядом с развешанным бельем и мрачно созерцала песочницу с оторванной доской. Это была самая старая женщина в целом дворе, ей недавно стукнуло двадцать семь, и теперь у нее уже не осталось былых радостей – ровесников почти нет, а молодежь не захочет якшаться с такой древней подругой. Ее последний приятель попался на рынке полтора года назад, во время кражи жалкого мерзлого яблока, и был убит торговцем прямо на месте преступления, а детей у Марии не осталось. Все четверо погибли один нелепей другого, и последний – месяц назад, когда заплыл слишком далеко в море и утонул. Сейчас во дворе именно Мария, как самая старшая, принимала все роды.
Молодые мамаши с разномастными колясками, обычно наполняющие двор и его окрестности, как видно, укатили со своими чадами поближе к берегу, чтобы не пропустить самое интересное.
Заметив двоих ребят, Мария оживилась и крикнула Максиму:
– Тебя сестра искала, хотела на пристань позвать!
– Я там и был, – отозвался он, кивнул Еванфии и поспешил проскользнуть мимо старухи в дверь своего парадного. Нашла когда сообщить новость! Ну да ладно, Марии простительно – поговорить ей не с кем, потому что девчонкам с ней скучно.
Квартира Максима находилась на третьем, предпоследнем этаже. Оно и к лучшему, не так заливает во время осенней непогоды и почти не беспокоят толпы гуляющих людей, которые возвращаются с частых праздников в гавани. Ведь от Моховой до порта – всего квартал. Правда, “дорога” – точнее, довольно крутая лестница – тянется между складов Колониального общества, стены у них глухие и кабачков там совсем нет. То ли дело Дворцовая, уж там-то есть где развернуться веселому люду.
Максим тщательно смыл кровь с одежды и рук, не забыл и про кусок арматуры. Обтерев его полотенцем, он затолкал “оружие” в кладовку. В печном шкафу отыскалась корзина с остатками сухих кукурузных лепешек, а за ней кувшин с размазанной по стенкам простоквашей. Максим вздохнул и принялся отскабливать лепешкой стенки кувшина. Тут на лестнице застучали шаги, с улицы также донеслись громкие голоса, явно довольные – народ дружно повалил с войны.
– Ага, – нахмурилась Дуклида, статным силуэтом возникая в дверном проеме. Сильной рукой она сжимала обломок какой-то палки с растрепанным красно-бурым концом. – Питаешься, значит. Где ты был, позволь спросить, когда весь город сражался с дольменцами? – Не дожидаясь ответа, она сбросила с плеча котомку, брякнувшую тяжестью, и ушла в ванную. – И воду всю вылил?
Максим отправился следом за ней. Раздосадованная сестра стояла посреди чугунной лохани и размахивала пустым ковшом, указывая им на мятый чан, подвешенный к стене. В другой руке у нее была пропыленная майка, которую она успела стянуть с себя и небрежно прижимала к груди. На краю лохани лежал ее любимый кухонный нож, вымазанный вражеской кровью. Максиму показалось, что ее живот уже не такой плоский, как раньше – похоже, возраст и однообразная пища дают себя знать.
– Не кипятись, – хмыкнул он. – Ну, вылил, что с того? Мне тоже надо было отмыться. Чего скрываешься? Титьки у тебя что надо.
Дуклида внезапно прекратила возмущенно шипеть и заметно смутилась, однако красоваться перед братом, конечно, не спешила. И он ее понимал, снисходительно скалясь и выливая в чан воду из последнего ведра – ей уже пятнадцать, самое время задуматься о ребенке.
– Хватит уже пялиться!… – вдруг воскликнула она и схватила полотенце, замахнулась им и стукнула брата по макушке. Максим лишь рассмеялся и потянул за край ее майку, в результате заработав чувствительный тычок в ребра. – Иди-ка сумку распакуй, да за водой сходи. – Дуклида подтолкнула Максима к выходу. – Я сегодня бляху срезала.
– Ух ты! – вскинулся Максим. Он бы не отказался послушать ее боевой рассказ, но лучше отложить беседу до вечернего чая.
Он подхватил оба ведра и выбежал из ванны. Бросив жестянки у входа, Максим поволок котомку сестры в кухню, цепляя ремешком за неровности дощатого пола, давно не крашеного и потрескавшегося. Внутри лежали две буханки довольно свежего хлеба, правда слишком черного, с какими-то мелкими, запеченными в тесте щепками, два кружка слегка позеленевшего сыра, шесть картофелин, две луковки и разные мелочи – бруски шершавого, крошащегося мыла, пара обернутых газетой леденцов… Максим вспомнил, как они с Софией, самые младшие в семье, постоянно ругались из-за конфет и старались отнять их друг у друга.
Другие электронные книги автора Олег Викторович Никитин
Феникс угоревший




 1.5
1.5
Урановая вахта




 4.67
4.67