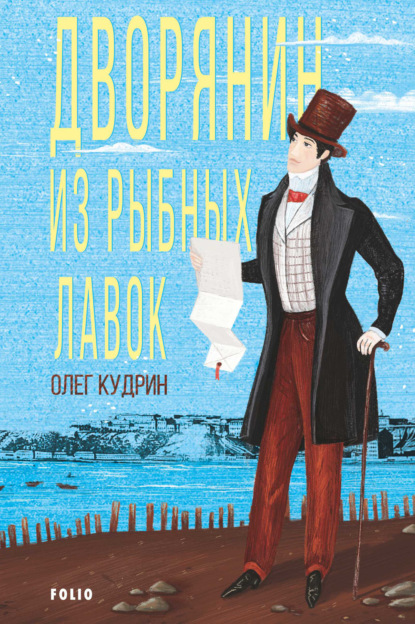По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дворянин из Рыбных лавок
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так, оттолкнувшись от фамилии Кочубей, да вследствие фамильно-династических рассуждений уроженец Полтавы, бравый молодой генерал вспомнил и о своей изысканно звучащей фамилии, берущей, однако, начало от также славного, но менее благозвучного полтавского казака Паська-Цалого. Дед генерала Паскевича как-то рассказывал о ветви Кочубеев, как он выразился, «толковой-умной, да неразумной». После разгрома Запорожской Сечи Мыкола Кочубей с братьями уехал делать Сечь Задунайскую. Но и там они рассорились со многими, оставшись простыми сотниками, кто где, а Мыкола – под турецким Хаджибеем, позже, при России, переименованным в Одессу. Дед говорил, что эти Кочубеи – казаки непростые, но надежные, с которыми можно сговориться. И на Черном море они угнездились крепко, многосемейно, так что, похоже, не переведутся.
Может, сейчас с ними посоветоваться да помощи спросить?.. Паскевич краем уха слыхивал, что казаки, издавна живущие в Хаджибее-Одессе, держат работу в местных каменоломнях, где пилят камень ракушняк, дабы город мог строить себя изнутри, как бы из своего же нутра. Потому он по простому вроде бы любопытству спросил у сопровождавших в Одессе лиц: а нет ли тут среди поставщиков ракушняка неких Кочубеев. На что был ответ – как же нет, есть, среди прочих: Мыкола старый да сын его Андрей с внуками живут в Усатовских хуторах… «Что ж, – подумал Паскевич, – раз уж великий князь делся неведомо где, то и мне, боевому генералу, допустимо оседлать сейчас коня, да и метнуться в Усатове по важному делу. Хуже уж точно не будет…»
И уж там, в хате Кочубеев, деда Мыколы да сына его Андрея, выяснилось, что воспитанник пажеского корпуса Паскевич при случае и украинское словцо ввернуть может, и чарку опрокинуть. Конечно же, Иван Федорович не стал говорить Кочубеям всего, только молвил, что ситуация сложная, требующая тайного рассмотрения и «терминового» разрешения. А уж те вывели его на троицу, не святую, но деловитую, состоящую из их сына и внука – Степана Кочубея, Натана Горлиса, Афанасия Дрымова.
При слаженной работе всей компании всё разрешилось быстро и четко. Оказалось, что порфирородный князь в очаровательном обществе уехал в гости на одну из дальних дач Большого Фонтана. Всё бы ничего, эка невидаль – великий князь убыл из театра не один, а с новою знакомой (это, в конце концов, едва ли не важнейшая функция Театра российскаго). Сомнительный привкус истории был в той скверной компании, что привезла августейшего юношу туда, и в дурной репутации дачи, где он ночевал. Так что к утру караул сих ненадежных особ был сменен Паскевичем на более подобающий. Когда ж Михаил Павлович в ночной рубашке и не по-княжески босым изволил выйти на веранду, дабы полюбоваться солнцем, занявшимся над морем, его там ждал не кто-нибудь, а генерал-адъютант при полном параде.
– Ваше высочество! – мягко, но с оттенком строгости произнес Паскевич. – Рад видеть вас в добром здравии и настроении. Изволите ли узнать? Ночью прибыло срочное уведомление, что милостивейшего сударя уже ожидают с большой программой пребывания в Тирасполе.
Великий князь кивнул головой и узнать изволил. После театральных утех и возлияний он был так расслаблен и миролюбив, что разрешил легко и без споров собрать себя да уже в полдень увезти из милой авантюрной Одессы.
Прошло время. Великий князь Михаил вернулся в Петербург. А Паскевич вновь приехал в Одессу. Умея помнить об оказанной услуге, он отблагодарил всех участников конфидентного расследования (оплата давалась в благодарность не только за сделанное ранее, но и за молчание в будущем). Дрымов получил внеочередное повышение по службе и стал частным приставом самой непростой для присмотра II части города Одессы, далекой от центра (и совсем не такой тихой, аристократической, как III часть). Чтобы вы понимали – это от Форштатской улицы и далее, включая кварталы Арнаутской слободы, Вольного рынка, и на юг, аж до кладбища. Кочубеи выпросили облегчение для участников мятежа Бужского казачьего войска, и те, кого еще не успели казнить со всей строгостью, действительно были помилованы. Сложнее всего оказалось отблагодарить наивного Горлиса, имевшего, кстати, наибольшие заслуги в сём расследовании.
Как французский гражданин, серьезно относящийся к службе, он категорически отказался от повышения в чинах, сказав, мол, молод, неопытен, еще и близко не достиг пределов компетенции, уже имеющейся. Так что пришлось в итоге взять деньгами. Сумма была не очень большая, однако при поддержке Одесского строительного комитета ее хватило на то, чтобы купить едва достроенный, но брошенный прежним хозяином домик во глубине LXIII квартала. Где это? Как бы вам объяснить, дабы сразу стало понятно. Ну, наискосок от казенного Городского сада по Гаваньской улице, где она переходит в Военную балку, ведущую к морю. Ясно, нет?.. А-а-а, вот как лучше всего сказать – вы сразу поймете, зря как на ладони. Это ж за домом, недавно построенным Феликсом Дерибасом по Гаваньской улице. Ну, не совсем так сразу за ним, а слегка подалее, в глубину квартала, в сторону екатерининских казарм… Ежели поняли, то идем дальше.
Учитывая, что гостиные дома в Одессе ох как дороги (значительная часть заработка уходила у Горлиса на оплату пристанища), обретение собственного жилища было крайне важным событием.
Глава 2,
а в ней домовладелец Горлис становится героем одесских сплетен и фантазий и празднует со своею amore «апрельскую рыбу»
Но имелось у этой славной истории и еще одно важное последствие. В ходе расследования Натан познакомился с одной из танцовщиц Одесского театра. При этом проявил себя в первом общении со стороны столь выгодной, что она одарила его своей благосклонностью. А после более близкого знакомства, общения – и любовью. У нее было прекрасное имя, само по себе звучавшее музыкальною фразой. Под него хотелось протянуть парочку рулад или произвести пару па: Росина Росетти! История ее приезда в Одессу была не так проста.
Артистов в Одесский театр нанимали в очередь итальянские антрепренеры Замбони и Монтовани. Поскольку вывеской театра была «итальянская опера», то первоочередное внимание уделялось певцам и певицам. А танцовщиц брал из мест поближе – как правило, польских трупп. К тому же сам Замбони да его семейство были хорошими певцами разных голосов. Как-то он пригласил к себе в одесскую оперную антрепризу очень милую меццо-сопрано Фину Фальяцци. А вот у той была двоюродная сестра – Росина, не сказать чтобы совсем уж Stella de la danza[2 - Звезда танца (итал.).], но очень и очень недурная демихарактерная танцовщица. Она выгодно отличалась своею техникой от весьма славных, но все же менее подготовленных танцовщиц, приехавших в бывший Хаджибей из польских земель Российской короны. Так что Замбони взял в Одессу их обеих.
Натан какое-то время думал, что имена сестер – безусловные актерские псевдонимы. Ну, посудите сами. Легкое, воздушное, игривое и игровое «Р-Р» танцовщицы. И насыщенное, объемное «Ф-Ф» меццо-сопрано. Но нет же, нет, оказалось, имена – подлинные. Хотя, строго говоря, все же с хитрецой. Можно сказать Росина Росетти и Фина Фальяцци, а можно – Роза Росетти и Серафина Фальяцци, как по паспорту. Уж сами судите, как лучше.
Обе жили в одной съемной квартире в доме на Гаваньской. И с одной общей прислугой. То и другое – за кошт, оплачиваемый антрепренером из денег, даваемых ему городом… Признаться, когда Одесский строительный комитет, озаботившийся судьбой Натаниэля после намеков «сверху», предложил ему обратить внимание на домик по той же улице, он счел это Перстом Судьбы. Значит, так ему предопределено – денно, а порою и нощно, быть поближе к dolce[3 - Милая (итал.).] Росине. Что ж, так тому и быть, он очень рад и даже, пожалуй, счастлив.
В одесских канцеляриях о событиях, происходивших вокруг великого князя, вроде не знали. Но некий флёр то ли высочайшего интереса, то ли таинственного возвышения, совпавший с приездом и отъездом Михаила Павловича, Горлиса сопровождал. (Видимо, Паскевич наводил о юноше благожелательные справки, и об этом узнали многие.) И вот тут Андре-Адольф Шалле, предварительно спросив мнение Горлиса, решил, что настало время реализовать вторую часть его плана, измышленного загодя. Во время одного из дружеских общений с графом де Ланжероном Шалле спросил, не может ли Александр-Луи поделиться с ним одним ценным сотрудником? Совсем не знает Ланжерона тот, кто подумает, что граф, генерал и генерал-губернатор мог отказать доброму приятелю из милой Франции в такой пустяшной услуге!
В чем заключались изменения. Горлис уходил с артикульной, целодённой работы в иностранной канцелярии генерал-губернатора, переходя на сдельный труд. Натан оставлял в прошлом нелюбимую им работу с унылым прохождением текущих бумаг, их подготовкой и обработкой. В будущее же брал только самое для него интересное: составление к пятнице еженедельных аналитических отчетов по текущим всемирным событиям (прежде всего на французском, во вторую очередь также – на русском). Но это не всё. Одновременно его брали во Французское консульство в Одессе – в те же сроки и с тем же заданием (но только без бессмысленного по большому счету русскоязычного варианта отчета). Понятно, что доклады эти были в чем-то пересекающиеся, но всё же совершенно разные.
«В чем же смысл?» – спросит читатель, не искушенный в дипломатии. Дело не только в том, что Горлис толково писал отчеты. Для чиновников и дипломатов двух великих держав он стал важным дополнительным каналом общения с визави, а также не лишним источником информации друг о друге. Что улучшало доверие, точней сказать, возобновляло. (Стервец Бонапарт крепко подорвал его, переслав императору Александру тайные антироссийские договоренности Людовика XVIII с Австрией и Пруссией.) Причем благодаря работе в двух сразу учреждениях, благодаря взгляду с двух сразу сторон отчеты Горлиса стали на порядок лучше и познавательней, чем ранее.
В скором времени эта история получила продолжение в чем-то неожиданное. Но ежели задуматься, то как раз вполне ожидаемое. Давно работавший в Одессе австрийский консул Христиан Самуил фон Том, узнав на одном из вечеров в клубной зале Рено (ну, той, что возле Театра) о том, что Натаниэль прекрасно владеет немецким, тут же предложил ему писать подобный отчет еще и для Австрийского консульства. Так уже к концу 1817 года в Одессе вокруг нашего доброго знакомого Натана Горлиса сложился тройственный союз великих держав.
* * *
А в начале следующего года, 1818-го, случилось еще одно важнейшее для города событие. Был открыт Ришельевский лицей. И он, между прочим, стал третьим таким в Империи – после Рижского (каковой являл собою переделанную шведскую Карлову школу) и Царскосельского лицеев. Можно представить, как лестно было одесситам оказаться в такой славной компании педагогических первооткрывателей! И тогда встал ключевой вопрос: как именовать будущий лицей? Конечно же, самым простым и естественным было дать ему имя Обожаемого Императора Александр Павловича. Но француз де Ланжерон, учитывая самые добрые воспоминания горожан о герцоге де Ришелье, а также количество сил, потраченных Дюком для основания сего заведения, сумел организовать решение куда менее явственное – назвать лицей Ришельевским.
Далее в дело вступил французский вице-консул Шалле. Когда готовилась торжественная программа открытия, он в ярчайших красках рассказал генерал-губернатору, что юный мсье Горли познакомился с Дюком на академической лекции в Сорбонне. И якобы проявил при сей встрече столь недюжинные научные познания, такую быстроту ума, что герцог был очарован им и тут же предложил юноше ехать в милую Одессу на важную работу. А посему Натаниэль Горли просто обязан выступить на открытии Ришельевского лицея как некое символически связующее звено между Ришелье в Париже и лицеем его имени в Одессе. Ланжерон, любивший подхватывать чужие идеи больше, чем изобретать собственные, пришел в восторг от такой пропозиции. И тут же одобрил ее, не слушая шипение нижестоящих русских чиновников, которые вели жестокую борьбу за право выступить на важном событии.
Выступление Натана – второе после Ланжерона! – произвело большое впечатление на публику. И это объяснимо: горящие глаза, прекрасное произношение (свежее – прямо на пароходе из Парижа), мягкий, ни для кого не обидный юмор… Ему хлопали тише и короче, чем Ланжерону, только из чинопочитания и общего уважения к заслугам Александра Федоровича. А после того все замыслились. И было от чего – такое предпочтение, явленное человеку молодому и безвестному, требовало какого-то толкования. Ну не мог же этот Горли просто так получить слово, да еще сразу за генерал-губернатором. Должны же быть какие-то объяснения!
И они тут же появились, точнее – были придуманы. В городе начали говорить, что знают, почти наверняка, будто оный Натаниэль – то ли крестник дюка де Ришелье, то ли племянник, а скорее всего – и то и другое. Когда о сём спрашивали напрямую у Шалле, тот отвечал остроумно-уклончиво, ничего не подтверждая, но, что еще важнее – не опровергая. Притом вице-консул улыбался столь тонко и загадочно, что самые смелые головы даже выдвинули предположение, будто Натаниэль – внебрачный сын Дюка!
И как только такая мысль зародилась, то в лицах де Ришелье дю Плесси, а также Натаниэля Горли начинали находить некие общие черты – некоторые полагали, что особенно похож нос, тонкий с благородной горбинкой. Вот только смуглая кожа да темные кудри Натаниэля… «Ба, – воскликнули горячие головы, – да это же верный указатель на то, кто является матерью «незаконнорожденного отпрыска Дюка»! Знойная чернокудрая испанка!» Но у кого бы сие вызнать? Обращаться к испанскому консулу в Одессе Луису дель Кастильо не имело смысла – все знали, как близок был он герцогу де Ришелье, да и скрытен – так что ничего не скажет. Поэтому дальнейшим изысканиям, уже отчасти научным, очень помогли подробные карты и атласы испанских земель. И что ж ты думаешь, любезный читатель, не сразу, но, вооружившись увеличительными стеклами, проницательнейшие из одесситов таки нашли в северных окрестностях Бильбао местечко Горлис. То бишь Горли во французском прозношении, любящем глотать окончания. Таким образом, смелая версия обрела законченный вид: Натаниэль Горли – незаконнорожденный сын герцога де Ришелье дю Плесси от прекрасной бискайки родом из окрестностей Бильбао.
Некоторые, конечно же, не удержались и попытались аккуратно выспросить мнение по поводу такой вариации у Шалле. Тот казался человеком более свойским и открытым, нежели дон Луис. Вице-консул поначалу не вполне понял, о чем речь. Но когда ему объяснили, начал горячо отрицать такую версию, опасаясь, что ежели слухи об ней дойдут до Ришелье, то тот может обвинить его самого в их распускании. Однако на сей раз именно та решительность, с какою Шалле опровергал слухи о прекрасной бискайке, смелыми одесскими головами начала восприниматься точным подтверждением их правильности. С тех пор вице-консул Шалле решил, что в общении с одесситами нужно изначально быть поаккуратнее, не помогая их фантазии разыгрываться слишком уж буйно.
Горлис же, до которого сии слухи странным образом не доходили, удивлялся, отчего некоторые спрашивают его мнение об Испании и в особенности о Бискайе. Еще можно было бы понять, если бы о Галиции – ну, значит, кто-то узнал о его происхождении и по обыкновению перепутал австрийскую Галицию с испанскою Галисией[4 - В европейских языках название восточно-европейской рутенской земли Галиция-Галичина и испанской провинции Галисия пишется и читается одинаково или очень похоже, что порой приводит к путанице.]. Но почему о Стране бискайцев, то бишь басков?!
Так и не сумев разгадать сию загадку, Натан списал ее на особенности формирующегося одесского характера и местного способа мышления…
Ну а теперь вернемся к 21 марта 1818 года. Впрочем, нет, мы же взрослые люди. И чтобы понять, что было утром 21 марта, надо знать, что было вечером 20-го. А было вот что. Натан с Росиной праздновал Poisson d’avril, иными словами, «апрельскую рыбу». Кто-то, возможно, удивится, как же это можно праздновать нечто апрельское в двадцатых числах марта? Таковым напомню про особенности русского календаря (то бишь, юлианского.) Он на двенадцать дней отстает от общепринятого в мире.
Натан, за недолгое пребывание в Вильно, не успел привыкнуть к сей особенности. (К тому же многие ее там попросту игнорировали, причем с удовольствием, видимым и подчеркнутым.) Но в Одессе – пришлось. Для него было странно, однако в то же время и как-то романтично жить одновременно в двух календарях, двух мирах: одном – всеобщем, другом – русском, вечно отстающем на дюжину дней. Сие находило отражение и в его переписке.
А получив надежный источник дохода, Натан стал частым посетителем почтовой конторы на пересечении Екатерининской улицы с Почтовой. Он оживленно переписывался с сестрами и другими родственниками в австрийских Олелько, Лемберге, Вене, русском Вильно, прусском Мемеле и самом обильном на адресаты Париже, где кроме тетушки Эстер и дядюшки Жако его адресатами были Эжен Видок и Друг-Бальсса. Ой, чуть не забыли, еще ж и родные Броды оставались – письма бонне Карине и паре ближайших отцовских приятелей. В эпистолах Натан всегда ставил две даты, акцентируя свою жизнь меж двух миров.
Да, так вот русское 20 марта как раз и являлось европейским 1 апреля. Накануне сего праздничного дня, с каковым Натана успели познакомить парижские школяры, он поговорил со своею любимой. И оказалось, что в Италии празднуют свое рыбное Pesce d’aprile[5 - Дословно – апрельская рыба (итал.). В переносном смысле – День шутки, День дурака.], причем ровно так же, как в парижском коллеже, где учился Горлис, – шутят, разыгрывают. А главный розыгрыш – незаметно поцепить рыбину кому-либо на спину. Коли злой розыгрыш – то тухлую; ежели подобрей – то бумажную или матерчатую.
Поэтому они сделали всё, дабы ничего не могло помешать им отметить сей праздник. Подготовившись к нему заранее, обменялись ч?дными серебряными рыбками караимской выделки, незаметно повешенными на спину друг другу (одесситы, видимо, подумали, что это новая мода украшаться). Ну и раз уж рыба, то и отужинали «у греков» в приличной кофейне (или, если угодно, харчевне) в Красном переулке. Думали, что заказать. И выбрали в конце концов прекрасную элладскую камбалу ? la Corfou. Достанет ли слов описать сие чудо кулинарии?.. (В Ресторации Отона хоть всё и дороже впятеро, ничего подобного такой рыбе делать все же не умеют.)
Ну, перво-наперво, всякий, видимо, знает, чем корфуская кухня отличается от прочей греческой. Там, где греческое блюдо запекут, на Корфу всенепременно стушат. Впрочем, совсем без жаровен и тут не обходится – на масле, лучше оливковом. В одну нарезается лук крупными кольцами и слегка присыпается сахаром, в другой же – посоленные треуголки перца и диски баклажан (это все, господа, новомодные овощи, пришедшие в Одессу из благословенной Бессарабии, а туда – из турецких Балкан). Когда лук слегка зарумянится, а овощи смягчатся, всё смешивается в нерасторжимом союзе уже в кастрюльке, в каковой состоится окончательное приготовление, и притрушивается средиземноморскими травами (тут уж на личный вкус). Некоторые еще любят добавить томатный соус по примеру бурдето, подаренного корфуской кухне венецианцами, но это, пожалуй, лишнее. Далее кладется чищеная, потрошеная камбала, натертая (не щедро) чесноком, толченным с солью; и сверху на рыбу – три лимонных кружала. Добавляется немного воды (по стеночке, дабы не смыть ничего с камбалы), уже горячей. И всё томится на малом огне. Снимается с него за полминуты до того, как рыба подумает, что она готова. А те полминуты как раз проходят, пока рыба доставляется жаждущим праздника заказчикам.
Рыба всё готовилась, а они с amore[6 - Возлюбленной (итал).] Росиной пробовали греческое вино вместе с разными видами сыра, как зрелыми, так и свежими, селянскими. Натан смотрел на Росину влюбленным взглядом. Красота ее (а разве может быть любимая девушка некрасивою?) была очень своеобычной. Никаких ярких, выдающихся черт лица, свойственных его соплеменницам и среди них – сестрам. И без мягкой округлой миловидности, столь частой у славянских женщин. Лицо его избранницы казалось сошедшим с художественной миниатюры, где мастер сдерживает себя, создавая красоту скупыми способами: тонкие губы; изящный, ровный, точеный носик с маленькими, но очень выразительными крыльями; серые глаза, не широко распахнутые, а всегда лукаво прищуренные, с отчасти восточным разрезом; и темно-русые, почти черные волосы, каждый раз затейливо убранные.
Одевалась же Росина так, что парижанки ее высмеяли бы за ретроградность и неблагонадежность. Она носила белые платья с завышенной талией, как это делали в наполеоновскую эпоху. Добавляла к ним ожерелье из белого жемчуга или же украшала себя какой-то из семейных камей. Всё это удивительно шло к ее внешности, но, конечно, не мешало злым шушуканьям за спиной. И что с того – модниц много, а Росина в Одессе была одной такою, ни на кого не похожей, неповторимою. Да, вот она – его истинное tesoro[7 - Сокровище (итал.).]…
Повезло, что дождя не было. И два квартала от харчевни до дома они могли пройти спокойно пешком то по деревянным мосткам, то даже ступая и на мостовую, в иные дни крайне ненадежную. В местах укромных останавливались, чтобы поцеловаться. Ну а когда дошли до Росининой квартиры, то уж не только целовались. При этом также позволяли себе игривые шутки, в иные разы непозволительные. Это стало возможным, поскольку Фины в квартире не было. Отпросившись из театра, она уж не первый день гостила где-то далеко… Однако через три часа Натан пошел к себе домой. Обыкновенно ночевать у Росины он не оставался по причинам, о которых вы со временем узнаете.
* * *
Итак, 21 марта 1818 года Натан проснулся в добром здравии. Вчера был хороший день. И вечер. И ночь. И утро было прекрасное – он молод, здоров и силен, любим и влюблен. И работа также имеется, хоть утомляющая своей обязательностью, но всё же не постылая и в сумме интересная. Сегодня как раз четверг, так что нужно приводить в порядок для окончательных отчетов выписки, делавшиеся в предыдущие дни, добавив к ним свежие. Сейчас вот умоется, позавтракает тем, что оставила помогавшая ему по хозяйству солдатка Марфа (она приходила утром), и – вперед.
Натан наскоро сделал физические упражнения, завещанные Дитрихом, умылся, обтерся. Так, что там Марфа наготовила? Овсяная каша с кусочками мяса. Ну, конечно, не Carrelet ? la Corfou, но зато полезно и сытно. Натан развернул глиняный котелок, заботливо укутанный Марфушей в старую одёжу. Взял расписную деревянную ложку, подаренную ею же на Рождество, и начал есть, с молодою торопливостью насыщая организм, кажется, всё еще растущий.
Кроме жующих челюстей и желудка, выделяющего нужные соки, работала также голова. Натан восстанавливал в памяти новости, полученные за последнюю неделю, и мысленно сортировал их – что важнейшее для Российской канцелярии, что – для Французского и Австрийского консульств.
Но тут размышления Натана были прерваны самым неожиданным образом. Стук в дверь. Да кто ж там?..
Пришел не кто-нибудь, а сам частный пристав II части Афанасий Дрымов. Он был встревожен и потому хлопотлив.
– Господин Горлиж, Господин Горлиж, нам с тобою ехать надобно, срочно!
По настоянию Горлиса они с Афанасием были на «ты». Правда, не сразу, а спустя значительное время. На такого чиновного служаку, как Дрымов, сам факт общения Натана – да этак запросто – с первыми лицами Одессы производил большое впечатление, что сковывало его язык на слове «ты»…
Два слова еще нужно молвить и про «Горлижа». Дело в том, что служащий в полицейской канцелярии, увидев во французском паспорте Натаниэля слова: Paris… Gorlis…, в каких-то своих ревизских бланках соответственно вывел по-русски: «Парижъ, Горлижъ». Дрымов же, читавший сии ведомости, звал Натана только так и не иначе (ну как же – написано, не могут же врать полицейские документы).
– Да погоди, Афанасий, дай доесть. Видишь снедаю.
– Вижу, вижу, но – ехать надо поскорее, беда у нас.
«У нас», – отметил про себя Натан. Вот ничего у него еще не случилось, а Дрымов уже и его к какой-то беде присовокупил.
– Ну, да, да. Доедаю уже. Может, ты, кстати, хочешь? Могу отсыпать.