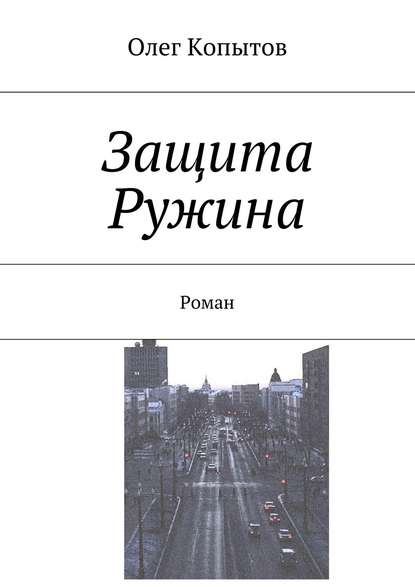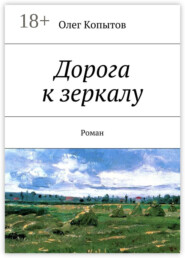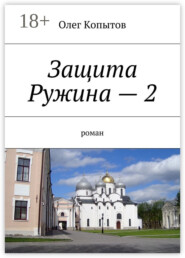По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Защита Ружина. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Челышев нехорошо улыбается и нерезко, но уверенно качает головой. Утвердительно. Потом допивает свое, вернее, мое пиво, утирает кулаком усобородные заросли возле рта и отвечает.
– Сценарий известный. Не ты первый против Незванова попер. Был еще один… Еще при коммунизме… Ну ладно. Сначала жди на свои пары проверки. Малейший прокол – неполное служебное соответствие. Знаешь, что это такое?
– Нет.
– Узнаешь… Если не проколешься, что маловероятно, докопаться и до столба можно: а чего он тут стоит, – если не проколешься, месяца за два Мекалов соберет от каждого, кто с тобой хоть как-то пересекался, полный мешок компромата. Окажется, что преподаватель Андрей Ружин – законченный алкаш, курит со студентами анашу, а любой студентке зачет у него можно получить только через постель. Потом тебе скажут: или заводим уголовное дело, или мой свою бедную головку говном и пошел вон. Ты понимаешь, что доигрался?
Я молчу и набыченно смотрю куда-то в угол мирового пространства.
11
«Только крови не ешьте; на землю выливайте её, как воду».
12
Прогноз Челышева оправдывался. Но… как-то вяло. Ну, пришла как-то раз, сразу после Нового Года и коротких каникул, старушка Синякова ко мне на семинар. Ну дак это, мне кажется, нормально: она лекции читает, я практические веду, должна же она хоть раз в семестр посмотреть, чего я на этих практических делаю: типы придаточных перечисляю или анекдоты про Вовочку рассказываю… Ну, стала Деревенькина, пряча глаза, всё чаще просить меня показывать всякие разные планы, и, совсем не пряча, лезть поближе к морде. Не то поцеловать хочет, не то просто понюхать, чистил ли сегодня преподаватель Ружин зубы перед педагогической вахтой… Ерунда… Всё как бы шло своим чередом. Я отпечатал с большой декабрьской зарплаты в пединститутской типографии автореферат, и скоро было его рассылать. Шел февраль. Мне не нужно было доставать чернил, не нужно было плакать: защита в апреле.
13
Числа пятнадцатого Казакам дали пустующую комнату в нашем блоке. Ту, откуда я, отхлестав ремнем свою репутацию, а заодно смертельно обидев бедную девушку, служащую по кафедре мировой культуры и умеющую посылать по матушке, – ту, откуда я выгнал Очкастую. Ту, за которую так неумело, не глотая оскорблений всемогущего Незванова, а – первый случай за всю историю Этого города – пропечатал одиозную фигуру в областной газете, – ту, за которую так неумело я боролся, думая, что, написанная за четыре месяца и моментально представленная к защите диссертация дает кое-какие права.
Казаки, не имеющие особой мебели, не следящие не то что фанатично, как моя жена, за чистотой и уютом, а вовсе к чистоте, уюту и прочим пещерным радостям равнодушные, накидали во вторую свою комнату всякого хлама, редко туда заходили…
Было обидно… Но обида была мала и мелка по сравнению с тем, что скоро – апрель, скоро – защита Ружина. Да не так уж велико было вообще всё на свете по сравнению с такими строчками из письма Натальи Витальевны: «… К.Б. из Москвы, а главное – О.Б. из Саратовского университета, первый оппонент, – уже прислали свои отзывы. Отзывы не просто положительные, обе утверждают (справедливости ради замечу, не буквально), что Вам, дорогой Андрей Васильевич, удалось сделать прорыв в изучении модуса. Ваше сочинение – не просто квалификационное, а настоящее научное исследование. Как, впрочем, Вы и нацеливались его сделать…»
Глава третья
1
«Опасайтесь самой сильной своей мечты», – говорят китайцы. А может, сиамцы или древние греки так говорили, может быть, вообще никто так не говорил, – не важно. Если даже ни у кого такой поговорки нет, ее стоит выдумать. Самая сильная, самая яркая мечта затмевает собой целый сонм маленьких, но как раз самых важных радостей, полк имени смысла жизни: чашку утреннего кофе с сигаретой, ради которых не самый глупый на свете человек Иосиф Бродский готов был раньше положенного получить последний инфаркт; зарплату вовремя и на сто рублей больше, чем ожидал; вопрос сынишки, от которого у тебя сразу мысль: ничего себе, а ведь повзрослел наголову; симпатичную девушку в лифте, собравшую все свои войска, чтобы выдержать осаду в минуту интимной дистанции в полметра с незнакомым усатым мужиком, а ты ей улыбнулся эдак по-отечески или пошутил как-нибудь интеллигентно (пример сейчас не могу привести, пример за мной) – она и оттаяла, она и поняла, что не всегда усатый мужик – солдафон империи зла; маленькие радости берутся порой ниоткуда, но нельзя даже предполагать, что они уходят в никуда: никогда они в никуда не уходят, они – та невидимая, растворенная в воде соль Мертвого моря, которая позволяет держаться на плаву, не тонуть, даже тогда, когда ты просто лежишь на этой самой воде навзничь и не предпринимаешь никаких действий, не разводишь воду руками и не пинаешь ее ногами, не дышишь по-китячьи и не производишь массу прочих трудоемких глупостей. Просто лежишь на воде. Соль мелких радостей сама тебя держит… Самая сильная, самая яркая мечта не позволяет понять, в чем заключена великая миссия простой немудреной жизни с ее простыми немудреными радостями.
А потом: эта самая самая сильная мечта – великая эгоистка! Она не только съедает духовную пищу жизни простой, но и в высоком смысле слова духовную пищу: она позволяет душе лениться, отдыхать там, где ей отдыхать нельзя – любить подругу дней твоих суровых надо? Надо! Детей баловать и в угол ставить надо? Надо! С друзьями тары-бары-растобары надо? Обязательно! А в церковь сходить? И выйти оттуда другим человеком. А третий том Довлатова дочитать? А киношку хорошую, где она всё же умирает и ты, здоровый тридцатилетний мужик, сопли утираешь, посмотреть? Причем не так, что смотришь в книгу или экран, а видишь огромную, величиной с белого слона, сладкую фигу своей незабвенной, единственно желанной, огненно недоступной и синими горами на горизонте реальной одновременно, – мечты…
Довольно подлая самая яркая, самая сильная мечта. По мозгам бьет – хуже водки и перебитой в пыль индийской конопли, хуже апперкота в нос и пяти таблеток феназепама на ночь. Получишь такую мечту – брррр! Упрешься ногами в собственную грудь, щеки надуешь и мычишь, с утра до вечера раздражая окружающих, особенно домашних и самых близких друзей. А ведь им – домашним и самым близким друзьям – не ваша самая заветная мечта нужна, а вы целиком, с костями, потрохами, нежными сторонами души и самыми глупыми глупостями. Цельный ты им нужен, одним словом.
Ну и последнее. Когда достигнешь этой своей самой сильной, самой яркой мечты, когда она, некогда заветная, превратится в реальность, окажется… Что не та она, за кого себя выдавала. Не очень-то она вам и нужна была…
Такие дела…
Но пока, в феврале 1995 года, преподаватель кафедры русского языка Андрей Васильевич Ружин всего этого не знал.
2
Двадцать третье февраля: официально – День Советской армии… простите – День защитника Отечества, – неофициально – день всех наших мужиков, – в 1995 году пришелся на четверг. Праздником-выходным его сделают намного позже. Пока же в странах СНГ творилась явная гендерная, то бишь половая дискриминация: 8 Марта, женский день, – праздник-выходной; 23 февраля, мужской праздник – рабочий день. То бишь пей сколько влезет, ведь ты буквально заслужил, – но после работы, – а с утра мучайся похмельем и иди на работу.
Кажется, в этот день занятий не было только у Челышева. Во всяком случае, вышел я утром покурить: стоит Челышев в коридоре возле ниши с пожарным шлангом и достает оттуда заначенную чекушку. Двухсотпятидесятиграммовая (слово-то какое длинно-солидное! – а емкость – смех один…) бутылочка полна всего наполовину. Можно и так сказать: наполовину пуста. Челышев смотрит на меня уже не гекторовым взором, а безвольно-печальным взглядом алкоголика и качает головой. В этом покачивании и всей визуальной конструкции – широкий спектр значений. Вербально это не выразить, или очень трудно выразить. В этом полупустом пузыречке, поднятом на уровне глаз, в этих глазах, так живо-тоскующе блестящих внутри зарослей всклоченных волос на голове, непричесанных усов-бороды, – во всём этом утерянный рай… Челышев пьет сто грамм тут же, возле пожарного шланга, и грустно шлепает домой, к жене-бегунье, жене – коллеге по имеющей хорошие отечественные традиции спортивной педагогике, женщине понятливой, но строгой, как воткнет она ему сейчас пару кубов димедрола и куб анальгина для усиления седативного эффекта! Бедный Сергей Петрович!.. Проснется, когда пьяны будут уже все: странный Ружин; худой, как палка, логик Малков (отчего все логики худые?); муж биологини Марии, дочери какого-то бурятского князя, добрейший (к друзьям, а не к посторонним лохам) крепыш Боря Иванович с расплющенным носом боксера; подкаблучник Валентин Валентинович, похожий на Гурвинка (я встречал в своей жизни с десяток людей, похожих на Гурвинка, и только один из них был настоящий чех из Праги) – сорокалетний препод-физиолог из тех, кто никогда не защитится, но немало от этого не переживает; к вечеру пьян будет физик-математик Перемолодчиков – милейший человек, в очках, из-под которых всегда блестит улыбка, тоже незащищенный, он уже хорошо знает, что такое компьютеры, и скоро уйдет из пединститута в новую романтическую профдеятельность сисадмина – системного администратора, это сейчас сисадмины в большинстве своем – пацаны недоученные, а в 1995-м эти ребята формировались из так и не защитившихся преподов-математиков… Трезвым останется Степан: как мужик он ни рыба ни мясо: не пьет, не курит, от женщин шарахается, как от огня, весь его пыл уходит на собирание виниловых пластинок, шахматы (каждый год играет в чемпионате города и уютно сидит в середине турнирной таблицы) и якобы науку (якобы, потому что та ахинея, которую он пытается выцарапать из-под своего мощного черепа, представляет собой помесь какой-нибудь пыльной книжки десятилетней давности и его, оттолкнувшихся от этой книжки, фантазий). Трезвым останется Казак: он из тех, у кого отец был буйным алкоголиком, поэтому Казак не только не пьет, но и ненавидит на клеточном уровне любой употребляющий элемент. Трезвым, хотя, по правде сказать, веселым, останется Самайкин: он пьет раз в год, но целый месяц, в августе, когда отгремит летняя сессия у студентов и приемные экзамены у абитуриентов, раскодируется Самайкин и пить будет жутко, не считая бутылок и денег, все руки у него будут в синяках от гемадезных капельниц, которых несчетное количество за запой поставит ему жена, похожая на цыганку, бывшая медсестра…
Всё это будет вечером, а сейчас, в полдень, я иду на кафедру, получаю дежурную открытку от кафедрянских женщин и дежурную авторучку в подарок, таких подарков на 23 февраля с недавнего времени – два: мне и Степану, – а когда-то, до смерти Стадницкого, было три… Веду семинар по словообразованию на втором курсе: терпеть не могу второй курс как класс и словообразование как никчемнейшую из дисциплин: по авторитетному заявлению профессора А. Н. Тихонова синхронное словообразование занимается изучением только живых (подчеркнуто мной – А.Р.) деривационных связей. Ну и кому это нужно?! От этого куча интереснейших слов остаются непроизводными. Например, «знакомый» – непроизводное. А то, что исторически оно произошло от «знак», а дальше рефлексируй, сколько влезет, никого не волнует, а ведь как жаль! «Знакомый» – тот, кому приносят знаки глубочайшего уважения, просто знаки внимания, тот, кто несет в себе знаки отличия от массы, тот, кому ты вешаешь на грудь знак «свой» в твоей системе «свой – чужой», – вот так поиграть на семинарах по словообразованию нельзя. Наоборот, нужно следить, чтобы студенты, строя деривационные цепочки, останавливались, где следует (по канонам современной грамматики). «Допрос» – «допросить» – «допрашивать». И точка. Никаких образовательных связей со «спрашивать». Хотя и там и там я бы выделил словообразовательный корень – «-праш-/-прос-» и сказал бы, что приставка с- – адамова. Все остальные: до-, о-, пере-, про-, из-… и так далее, это уже приставки имени Сифа, Еноса, Каинана, Малелеила, Иареда и прочих…
Ладно: студенты – рабы интеллектуального труда: что им преподаватель велит, то они на гору своего непонимания и потащат… и потом благополучно вниз скинут… чтобы опять наверх потащить… Пусть будет «допрос» – «допросить» – «допрашивать». И точка…
Зато вечером! Разрешенные, легитимные, двумя годами – служил я под Иркутском в авиации, это вам не пехота-«кочколазы» и не чумазые танковые войска! – двумя годами, первый из которых – ад кромешный, а второй чем-то похож на бесшабашный рай, сегодня вечером – двумя годами заслуженные пятьсот граммов…
3
Простой преподаватель – не кандидат-доцент, а тем более не доктор-профессор, и даже не старший преподаватель, – что молодой ишак: нагрузки-поклажи много, тащить ее нужно почти каждый день, а упираться, как старый осел, еще не научился… После восхитительных пятисот граммов и курицы на бутылке – вернее, мы готовим ее в духовке электроплиты под романтическим названием «Мечта», которая стоит прямо в нашей шестнадцатиквадратометровой комнате, что служит нам залом, спальней, детской и кухней одновременно, – готовим мы курицу не на бутылке, а сажаем ее, бледную, бедную, на майонезную баночку, куда предварительно всыпано-влито полтора десятка разных специй, – после дивных и не очень-то и упоительных под такую закуску (а к курице еще и длиннющие спагетти, а также салат из крабовых палочек – гулять так гулять!), после таких несравненных пятисот граммов… черт побери – всё равно похмелье, и идти в пятницу в первую смену и не к родным филологам, а на отделение дефектологии, где готовят будущих логопедов… Там одни девчонки. На филфаке парней – раз, два и обчелся, но есть, а у логопедов (почему мужского рода?) они отсутствуют как вид… Примерно к восемнадцатой минуте лекции об абстинентном синдроме забывается. Объясняю разницу между двоеточием и тире, проставляемых в сложном бессоюзном. «Уважаемые коллеги!..» – это я от московских профессоров перенял привычку обращаться к студентам именно так. «Уважаемые коллеги! Вот я на доске нарисовал вам таблицу с правилами простановки тире и двоеточия в сложном бессоюзном предложении, которую контаминировал… ну, собрал… из нескольких учебников по пунктуации… особливо, конечно, из книжек несравненного Дитмара Ильяшевича Розенталя. И к экзамену попрошу поднапрячься и эту таблицу выучить… Но, кроме экзамена, вам ведь еще частенько придется просто хорошо писать по-русски. Поэтому в добавление к этой таблице еще несколько слов об этой паре – двоеточие и тире. Вы знаете, у них прямо противоположная философия. Тире – это стрела, всегда летящая только вперед. У Гоголя, кажется, вообще нет двоеточий, только тире. Всё в его текстах устремлено вперед. Да вы вспомните его классические фразы: „Тройка, куда несешься ты?!“, да? Или что еще? Правильно! „Какой русский не любит быстрой езды!“ Ну, и так далее. Итак, тире – это движение вперед, стрела, летящая вперед. Кстати, тире – это такая длинная палочка, к которой приделай еще пару штришков – именно стрела и получится, да? Давайте, я прямо на доске и пририсую… А теперь вместе придумаем какой-нибудь пример… Я начну. „Он, задыхаясь, бежал на свидание, боясь опоздать…“ Ну, кто закончит? А она чего? Ну, друзья?! Хорошо, я и закончу: „… её еще не было!“ Корявенько, с точки зрения высокой прозы, вообще-то, получилось, но ничего, как синтаксический пример пойдет. Не возражаете? Ну запишите. „Он, задыхаясь, бежал на свидание, боясь опоздать, – её еще не было“. Кроме тире, после „опоздать“, какой еще знак стоит? Правильно – запятая. Это в данном случае не единый знак, как в периоде, а разные функциональные знаки. Запятая что делает? Правильно, закрывает деепричастный оборот, он же – вставная конструкция. А тире? Тире заменяет сопоставительный союз „а“, или противопоставительный „но“, которые могли бы быть в сложносочиненном союзном предложении, вот посмотрим на таблицу, но главное, что я вам только что про философию тире говорил? Это стрела, летящая в последующее событие. Если „она еще не пришла“, это ведь впереди стоящее событие? Он не знал, он пришел и увидел, что ее еще нет. Как „не событие“ (улыбаюсь)! Вполне нормально, говорите? Не знаю, никогда больше десяти минут девушку не ждал… (Они возмущаются, я смеюсь) Да шучу, шучу! Ждал. И по полчаса, и по часу. Помню, однажды как раз и ждал час, да на таком снегопаде, каждая снежинка огромная, знаете, как дети в детском саду из белой бумаги на Новый год вырезают и на окна клеят. Вот на таком снегопаде, да. Целый час… В такого снеговика превратился, одни глаза из-под снега торчат… Ну-с, вернемся к нашим баранам. Итак, тире в бессоюзном – это стрела, летящая только вперед. А раз с двоеточием у них прямо противоположная философия, значит двоеточие это что? Это зеркало заднего вида. В двоеточие видно только то, что сзади. Оно объясняет, поясняет, изъясняет то, что уже было, прошло, то, что в тексте позади, некую прежнюю ситуацию. Давайте опять сами пример придумаем. „Вставать было тяжело: вчера он слишком много…“ Да какой „выпил“, вы чего! „Читал“!.. Нет, лучше „долго“, и добавим „на ночь“, да? Ну, давайте так: „Вставать было тяжело: вчера на ночь он слишком долго читал…“ Теперь, уважаемые коллеги, сами. Каждый в своей тетрадке по паре предложений с тире, и по паре с двоеточием. Ну-с, поехали…»
А потом я иду в первый корпус, где гуманитарные факультеты и кафедры, и ловлю зубами, глазами, красным мешочком, называемым сердцем, и спрятавшейся между левым и правым легкими невидимой, но часто упоминаемой субстанцией, называемой «душой», а главное – нервами, всеми своими десятью миллиардами, или сколько их там? – нейронами, ловлю некое впереди стоящее событие. Завкафедрой Деревенькина, и впрямь похожая на заведующую сельским клубом, в такой же синей кофте, как у Ёлкиной, но Ёлкина – легенда МГУ, профессор с мировым именем, а Деревенькина – несчастная провинциальная баба со степенью кандидата наук, вымученной на материале сибирских таможенных книг XVIII века, когда-то она была весела и полна планов, а потом ее заставили быть завкафедрой, быть завкафедрой при Незванове – это сущее наказание за три рубля прибавки к скудному жалованью, – Деревенькина, пряча глаза, как никогда, уже вроде бы дальше некуда прятать – всё равно дальше прячет, в какие-то не дальние коридоры даже, а вентиляционные прямоугольники, спрятанные под старыми обоями, – говорит: «Андрей Васильевич, мне в ректорате дали эти документы и приказали…» Она так и сказала – «приказали»… «…и приказали дать вам с ними ознакомиться. Только читайте, пожалуйста, при мне, по возможности быстро, мне нужно их через пятнадцать минут вернуть». Мы идем в аудиторию рядом с кафедрой, где обычно проходят наши кафедральные заседания, она садится не за преподавательский стол, а на последнюю парту, ей нужно что-то делать, поэтому она достает какую-то книгу, я сажусь впереди нее и открываю папку.
Первым листом лежит докладная Селезневой. Коллеги с почти взрослой дочерью и отсутствием как мужа, так и степеней и званий. Неужели я когда-то сделал ей что-то плохое? Мы так мило общались с ней все эти три года. Господи, да что это творится-то на белом свете?!
«В сентябре 1994 года деканом факультета была назначена комиссия по приему экзаменов у студентов, не сдавших экзамены в летнюю сессию. Кроме меня, в эту комиссию был назначен и Андрей Васильевич Ружин. Переэкзаменовка проходила после основных занятий, вечером. Андрей Васильевич пришел на это мероприятие с явными признаками опьянения. Для подобного мероприятия он был в чересчур легкомысленном настроении, я сидела недалеко от него и чувствовала запах спиртного…»
Я хорошо помню этот случай. Судили двух, да, не очень успешных студенток, не сдавших летом лексикологию, которую вела как раз Селезнева. На переэкзаменовке были еще Кудряшова и Лора. Я действительно много и глупо улыбался, наивно думая, что таким образом создам для девчонок более-менее похожую на реальность атмосферу. Одна девчонка всё же пересдала. Вторая плавала вкривь и вкось. Всё-таки я проголосовал за «тройку». Селезнева и Кудряшова – за «неудовлетворительно». Лора права голоса не имела, ее задача была оформить вердикт. Девчонка была высокая, нескладная, говорила, что ей приходится учиться на дневном и одновременно работать. Кудряшова, зажав свою лысину рукой, говорила ей, что это ведь не пожизненное исключение, за этот год она может продолжать спокойно работать и одновременно готовиться к экзамену. Через год пересдаст и восстановится. А год пролетит быстро. Вот тогда я перестал улыбаться. Улыбаться уже было незачем… Но запах спиртного! Не было никакого запаха! Я был трезв, как правоверный мусульманин во время поста!
Дальше… Дальше была докладная Казака.
«…Живя в общежитии, ведет антиобщественный образ жизни… Пьет и пристает к соседям, чтобы его веселили, напрашивается на ничего не значащие разговоры в то время, когда преподавателям необходимо готовиться к лекциям… Хвастает собственными якобы успехами в научных исследованиях, но ни разу не помогал оргкомитету в проведении внутриинститутских научных конференций по секции филологии… Будучи пьяным, имеет обыкновение через каждые пять минут ходить в коридор курить, при этом громко хлопает дверями и мешает спать соседям…»
Всё не так, Казак, всё не так! Но главное не это. Ты, когда писал эту чушь, что, сидел с разбитой мордой в подвале Лубянки? Кстати, о разбитой морде: ты где, Казак? Ты понимал, что я когда-нибудь это прочту?
Еще в папке были бумажки от двух, уже уволившихся лаборанток кафедры – лаборантки у нас меняются, как быстро перегорающие лампочки Майлисайского электролампового завода. Месячная зарплата лаборанта кафедры эквивалентна цене полутора килограммов сливочного масла… Но откуда они выцарапали этих девчонок и как заставили написать? Там полная ерунда: «Была свидетелем, как Ружин А. В. дважды опоздал на занятия…»; «Отпустил студентов за десять минут до звонка…» Но всё же! Как заставляют писать доносы тех, у кого нет на это никаких мотивов? Или мотив писать донос есть всегда, был бы человек, умеющий писать?
Была большая бумага от Кудряшовой. Здесь – одни эмоции и рюшечки: «Заносчивый… эгоистичный… не посещает лекции ведущих преподавателей-лекторов, хотя это – путь профессионального роста для ассистента кафедры… избегает общественной работы… вял и безынициативен в делах коллектива кафедры…»
Здесь была бумага от женщины с истфака, фигуры одноцветной, про таких говорят, где они – там скандал; как-то я пришел со студентами в аудиторию, которая черным по белому была предназначена нам расписанием, – сидит с какими-то двоечниками и с места не сдвигается, – чего, говорит, вы себе аудиторию не найдете, идите-ка отсюда, – кто вы такая, говорю, – как кто, возмущается, человек, личность, – фамилия и факультет, говорю, докладную на вас проректору буду писать, – ах вы писатель! Но фамилию и факультет все же назвала… Здесь в этом, с позволения сказать, досье, она представила тот случай, конечно, под совершенно иным углом: дескать, молодой наглец Ружин пытался выгнать ее из законно занимаемой ей и приписанной истфаку аудитории…
Здесь был полный набор бумаг про случай с Очкастой, начиная с ее заявления в милицию с резолюций милицейского начальника разобраться в трудовом коллективе, заканчивая гневными междурядьями осуждающих машинописных строчек от кафедры и деканата филфака; здесь была невразумительная характеристика от Деревенькиной; какая-то ерунда от вахтера, что Ружин А. В. забывает закрыть на ключ аудитории, в которых отзанимался; конечно, писулька от директора студгородка, что видел меня бредущим в сторону общежития пьяным… Сволочи! Ну пил я горькую, но совсем не в те разы, о которых вы пишете!..
Слабым утешением было лишь то, что ничего не было ни от одного студента, не было, да и не могло быть ни от умницы Великановой, ни от милой старушки Синяковой… Почему-то ничего не было и от Степки… Спасибо, Степан Николаевич…
Я закрыл папку, встал, молча положил перед Деревенькиной. Молча вышел. Пошел по улице, вот здесь уместно сказать: куда глаза глядят… Понятно… Незванов этой папкой сказал очень простую вещь: «Увольнять тебя пока не за что… но ты всё равно увольняйся. Или ползи ко мне на коленях: защита-то у тебя в апреле. На какие шиши полетишь?»… Действительно, на какие?
4
Банальная фраза, но как сказать иначе? Мысли путались в голове… Я шел по Центральной улице, потом свернул в парк. Обшарпанный вход, побеленный еще при коммунистах, выщербленные плиты центральной аллеи… Вдруг я понял, что мне холодно. От макушки до кончиков пальцев на ногах. Сегодня морозно…
Я знаю, у кого занять: у Натальи Ивановны. У нее маленькая книжная лавка напротив пединститута. Муж – спившийся поэт. Когда-то был в силе: его издавали в Этом городе центнерами, в Москве – пудами. Он рулил в Этогородском бюро пропаганды советской литературы. Потом не стало ни бюро, ни советской литературы. У Натальи Ивановны два сына. Один – более-менее, второй – законченный наркоман. Книжки сейчас идут плохо: большинству народа на ужин бы наскрести, какие тут книжки? Но – всё равно. Я всегда старался этого не делать, но сейчас я иду к Наталье Ивановне. «У меня более чем неприятность, кажется, меня выгоняют из института. Диссертация летит к черту… На две бутылки!.. – Андрюша, ты только отдай, ладно! – Без проблем! Дни зарплаты с двадцать восьмого по тридцатое. Наталья Ивановна, вы меня знаете!»
Я ставлю две бледные бутылки «Столичной» в холодильник. Во второй половине девяносто второго – первой половине девяносто третьего я год подрабатывал в новой, первой в Этом городе частной школе… Год мы собирали с этой шабашки на холодильник. Почти ничего со школьных зарплат не тратили. Как это трудно, между прочим, получать деньги и складывать их в кубышку! Танталовы муки это, кажется, называется…
Я наливаю целый стакан. У меня есть заветный граненый стакан. Он стоит глубоко на полке в стандартном общежитском шкафу, что есть в каждой комнате. Когда мы въехали, в нем не было полок. Только рейки, чтобы эти полки держать. Я купил большой лист фанеры, а еще мне нужен был оргалит. Помню, мы тащили эти листы с Лешкой Китовым по бульвару, он высокий, Лешка, на полторы головы выше меня. Было неудобно. Было лето. Было жарко. Мы часто отдыхали. Из фанеры я напилил аккуратненьких полок. Оргалит положил на те места пола, где прогнил старый. Старый вначале отодрал… Работать по дому приятно. Даже если дом – общежитие пединститута… А где будем жить, если уволиться? У тещи? Имеем небольшой опыт… Когда мать с родной дочерью – хуже кровных врагов, только из-за того, что дочь с мужем и всю ночь вопящим ребенком живут с этой матерью, со стариком-отцом, когда… Ну, страшно, в общем, это всё. Не вариант это… Другого пединститута, другой кафедры русского языка в Этом городе пока нет. Школа?.. Там работают люди без нервов… точнее, женщины без нервов и претензий к собственному будущему, а я мужчина с нервами, который за четыре месяца написал диссертацию по семантическому синтаксису. Я многого хочу. Хочу летать в Красноярск и Москву. Писать статьи и книги… При всем при том… Я странный Ружин… глупый Ружин…
Я пью стакан водки залпом. Ничем не закусываю. Водка теплой волной катится в желудок и шипит там, на каком-то песочке. Волна затихает. Остается смоченный песок и приятная пена. Перед следующей волной-порцией я выхожу покурить. Сажусь на кухне на корточки, облокотившись спиной о стену. Как сидели старатели в промерзших бараках в романе Олега Куваева «Территория». Я вдруг чувствую сильную усталость. Вместо алкогольной эйфории или хотя бы некоего успокоения, я вдруг остро чувствую, что хочу спать. Спать и всё. Куда-нибудь провалиться в небытие. А чем сон не небытие?! Я встаю и иду в свою комнату. Ложусь на диван… И действительно засыпаю… Просыпаюсь оттого, что ворчит жена. Она обнаружила в холодильнике целых две бутылки водки, одна початая и, пока я сплю, жена просто ворчит. Пятилетний сын понимает, что сейчас что-то будет, он сидит под выключенным телевизором на ковре и ждет, что сейчас будет. А что будет? Скандал будет! Сегодня мы так не договаривались. Жена, увидев, что я проснулся, взрывается. Она всегда говорит одно и то же. Но мне всегда обидно по-настоящему. Особенно обижает слово «писарь». Даже слово «алкаш» не обижает, хотя, какой из меня алкаш? Я, как верблюд, могу не пить два-три месяца. Когда всё нормально… Сейчас не просто ненормально, сейчас ой-ё-ёй, как всё плохо, неужели не понятно?.. На меня находит красная волна ярости… Конечно, да, я знаю, вы знаете, все это знают. От наших неудач мы прежде срываемся на тех, кто ближе. На родных и близких. Это их плата за наши слабости и глупости… Хотя и наша тоже… На меня находят красная волна ярости. Я сжимаю кулаки, мои губы бледнеют, я просто придвигаюсь к ней поближе и тихо говорю: «Ты заткнешься или нет?» Говорю вроде бы тихо и просто, но она пугается не на шутку. Она увидела красную безмозглую гориллу, которая сидит у меня внутри. Она хватает сынишку и убегает к своей матери. Сегодня она не вернется…
Я сажусь за стол и пью маленькими рюмочками с изображениями древних корейских сюжетов. Еще в юности кто-то из друзей говорил мне, что пить маленькими рюмочками – сильнее захмелеть. А я почему-то не могу захмелеть. Опять белкой в колесе начинают крутиться безысходные мысли… Я боюсь себе признаться, что я – дурак, козел, идиот, что всё должно быть иначе, я должен был тихо сидеть в уголке и не высовываться, пока не защищусь, и на хамство Незванова не отвечать, и комнаты не просить. Защита, защита, защита Ружина – вот что главное… Теперь я сам себе ломаного гроша не дам, что защищусь в апреле. Теперь не просто молчать, теперь задницы лизать надо, что бы вернуть статус кво. И то вряд ли вернешь… А я даже молчать не умею… Как всё плохо! Ну и что эти рюмки? Шарахнуть опять по жизни стаканом, что ли?.. Да нет, выйду вначале покурить. Иду курить, возвращаюсь. Надо бы закрыть дверь в блок на ключ. А потом дверь в комнату тоже на ключ. Надо захлопнуть все люки, герметично все люки задраить…
Но дверь в блок не закрывается… Ах, да, «собачка» замка давно заедает. Да и планка совсем разболталась. Я выношу из дому отвертку и молоток. В другой раз я подошел бы к делу обстоятельно. Крутил-вертел «собачку» замка, разобрал бы весь замок и долго прикидывал, как это всё починить… Сейчас у меня не то состояние… Сейчас мне не до того, чтобы послесарить, мне нужно захлопнуть все люки, герметично все люки задраить… Поковыряв почти бездумно отверткой, я беру молоток и начинаю бить по замку. Вначале осторожно-легко, потом всё сильнее и сильнее. Не замечаю, как сзади подходит Казак. У него злое лицо. Он что-то говорит, кажется, материт меня. Молоток у меня в левой руке. Я размахиваюсь левой, но бью его кулаком правой. Удар хлесткий, удачный, чуть ниже левого глаза. Голова Казака дергается, сам он летит к стене, гвоздь, торчащий из стены, пропорол ему щеку. Я бросаю молоток на пол и жду, что будет дальше. Казак бросается на меня, бросается, а не бьет, поэтому мы сцепляемся, как боксеры в клинче. Коридор узкий, мы бьемся спинами то об одну стену, то о другую… Выбегает жена Казака и истошно кричит. Мы расцепились. Казак цедит сквозь редкие, гнилые зубы (оттого у него всё время плохо пахнет изо рта, с ним невозможно стоять рядом): «Ну ты приплыл, сейчас тебе будет!» Казаки уходят к себе. Я к себе. А что будет? Конечно, милиция и всё такое… До ближайшего от общежития отделения всего-то метров четыреста. Пока то да сё – сколько стаканов успею выпить?.. Искандер сказал: «Любой русский – пьющий Гамлет». Верно, блин!.. Когда выпил третий стакан – тихий, я бы сказал: интеллигентный стук в дверь. Подхожу, открываю. За дверью два сержанта в сине-серой форме. «Выйдите, пожалуйста». Это издевательство – вот это «пожалуйста»: не успел выйти – руки заломаны за спину, быстро, почти бегом тащат вниз. Мы живем на третьем этаже. На втором я замечаю, что босиком… Вот это плохо, что босиком…