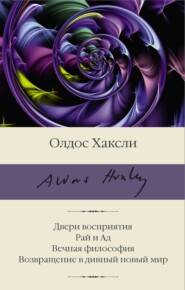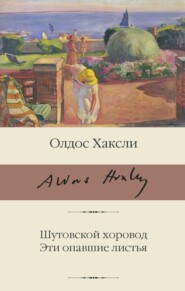По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О дивный новый мир. Остров. Возвращение в дивный новый мир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он побежал за ней. Спрашивает, почему на нее рассердились.
– Я сломала там что-то, – говорит Линда. И сама рассердилась. – Откуда мне уметь их дрянные одеяла ткать, – говорит. – Дикари противные.
– А что такое дикари? – спрашивает он.
Дома у дверей ждет Попе и входит вместе с ними. Он принес большой сосуд из тыквы, полный воды не воды – вонючая такая и во рту печет, так что закашляешься. Линда выпила, и Попе выпил, и Линда смеяться стала и громко говорить; а потом с Попе ушла в другую комнату. Когда Попе отправился домой, он вошел туда. Линда лежала в постели, спала так крепко, что не добудиться было. Попе часто приходил. Ту воду в тыкве он называл «мескаль», а Линда говорила, что можно бы называть «сома», если бы от нее не болела голова. Он терпеть не мог Попе. Он всех их не терпел – мужчин, ходивших к Линде. Как-то, наигравшись с детьми, – было, помнится, холодно, на горах лежал снег, – он днем пришел домой и услыхал сердитые голоса в другой комнате. Женские голоса, а слов не понял; но понял, что это злая ругань. Потом вдруг – грох! – опрокинули что-то; завозились, еще что-то шумно упало, и точно мула ударили хлыстом, но только звук мягче, мясистей; и крик Линды: «Не бейте, не бейте!» Он кинулся туда. Там три женщины в темных одеялах. А Линда – на постели. Одна держит ее за руки. Другая легла поперек, на ноги ей, чтоб не брыкалась. Третья бьет ее плетью. Раз ударила, второй, третий; и при каждом ударе Линда кричит. Он, плача, стал просить бьющую, дергать за кромку одеяла:
– Не надо, не надо.
Свободной рукой женщина отодвинула его. Плеть снова хлестнула, опять закричала Линда. Он схватил огромную коричневую руку женщины обеими своими и укусил что было силы. Та охнула, вырвала руку, толкнула его так, что он упал. И ударила трижды плетью. Ожгло огнем – больней всего на свете. Снова свистнула, упала плеть. Но закричала на этот раз Линда.
– Но за что они тебя, Линда? – спросил он вечером.
Красные следы от плети на спине еще болели, жгли, и он плакал. Но еще и потому плакал, что люди такие злые и несправедливые, а он малыш и драться с ними слаб. Плакала и Линда. Она хоть и взрослая, но от троих отбиться разве может? И разве это честно – на одну втроем?
– За что они тебя, Линда?
– Не знаю. Не понимаю. – Трудно было разобрать ее слова – она лежала на животе, лицом в подушку. – Мужчины, видите ли, принадлежат им, – говорила Линда, точно не к нему обращаясь вовсе, а к кому-то внутри себя. Говорила долго, непонятно; а кончила тем, что заплакала громче прежнего.
– О, не плачь, Линда, не плачь.
Он прижался к ней. Обнял рукой за шею.
– Ай, – визгнула Линда, – не тронь. Больно же! Ай! – И как пихнет его от себя. Он стукнулся головой о стену. – Ты, идиотик! – крикнула Линда и вдруг принялась его бить. Шлеп! Шлеп!..
– Линда! Не бей, мама!
– Я тебе не мама. Не хочу быть твоей матерью.
– Но, Линд… – Она шлепнула его по щеке.
– В дикарку превратилась, – кричала она. – Рожать начала, как животные… Если б не ты, я бы к инспектору пошла, вырвалась отсюда. Но с ребенком как же можно. Я бы не вынесла позора.
Она опять замахнулась, и он заслонился рукой.
– О, не бей, Линда, не надо.
– Дикаренок! – Она отдернула его руку от лица.
– Не надо. – Он закрыл глаза, ожидая удара.
Но удара не было. Помедлив, он открыл глаза и увидел, что она смотрит на него. Улыбнулся ей робко. Она вдруг обняла его и стала целовать.
Случалось, Линда по нескольку дней не вставала с постели. Лежала и грустила. Или пила мескаль, смеялась, смеялась, потом засыпала. Иногда болела. Часто забывала умыть его, и нечего было поесть, кроме черствых лепешек. И помнит он, как Линда в первый раз нашла этих сереньких тлей у него в голове, как она заахала, запричитала.
Сладчайшею отрадой было слушать, как она рассказывает о Том, о Заоградном мире.
– И там правда можно летать когда захочешь?
– Когда захочешь.
И рассказывала ему про дивную музыку, льющуюся из ящика, про прелестные разные игры, про вкусные блюда, напитки, про свет – надавишь в стене штучку, и он вспыхивает, – и про живые картины, которые не только видишь, но и слышишь, обоняешь, осязаешь пальцами, и про ящик, создающий дивные запахи, и про голубые, зеленые, розовые, серебристые дома, высокие, как горы, – и каждый счастлив там, и никто никогда не грустит и не злится, и каждый принадлежит всем остальным, и экран включишь – станет видно и слышно, что происходит на другом конце мира. И младенцы все в прелестных, чистеньких бутылях – все такое чистое, ни вони и ни грязи, – и никогда никто не одинок, а все вместе живут и радостные все, счастливые, как на летних плясках в Мальпаисе здесь, но гораздо счастливее, и счастье там всегда, всегда… Он слушал и заслушивался.
Порой, когда он и другие дети садились, устав от игры, кто-нибудь из стариков племени заводил на здешнем языке рассказ о великом Претворителе Мира, о долгой битве между Правой Рукой и Левой Рукой, между Хлябью и Твердью; о том, как Авонавилона задумался в ночи, и сгустились его мысли во Мглу Возрастания, а из той туманной мглы сотворил он весь мир; о Матери-Земле и Отце-Небе; об Агаюте и Марсайлеме – близнецах Войны и Удачи; об Иисусе и Пуконге; о Марии и об Этсанатлеи – женщине, вечно омоложающей себя; о Лагунском Черном Камне, о великом Орле и Богоматери Акомской. Диковинные сказы, звучавшие еще чудесней оттого, что сказывали их здешними словами, не полностью понятными. Лежа в постели, он рисовал в воображении Небо и Лондон, Богоматерь Акомскую и длинные ряды младенцев в чистеньких бутылях и как Христос возносится и Линда взлетает; воображал Всемирного начальника инкубаториев и великого Авонавилону.
Много ходило к Линде мужчин. Мальчишки стали уже тыкать на него пальцами. На своем, на здешнем языке они называли Линду скверной, ругали ее непонятно, однако он знал, что слова это гнусные. Однажды запели о ней песню, и опять, и опять – не уймутся никак. Он стал кидать в них камни. А они – в него; острым камнем рассекли ему щеку. Кровь текла долго; он весь вымазался.
Линда научила его читать. Углем она рисовала на стене картинки – сидящего зверька, младенца в бутыли; а под ними писала: КОТ НЕ СПИТ. МНЕ ТУТ РАЙ. Он усваивал легко и быстро. Когда выучился читать все, что она писала на стене, Линда открыла свой деревянный сундук и достала из-под тех красных куцых штанов, которых никогда не надевала, тоненькую книжицу. Он ее и раньше не раз видел. «Будешь читать, когда подрастешь», – говорила Линда. Ну вот и подрос, подумал он гордо.
– Вряд ли эта книга тебя очень увлечет, – сказала Линда. – Но других у меня нет. – Она вздохнула. – Видел бы ты, какие прелестные читальные машины у нас в Лондоне!
Он принялся читать. «Химическая и бактериологическая обработка зародыша. Практическое руководство для бета-лаборантов Эмбрионария». Четверть часа ушло на одоление слов этого заглавия. Он швырнул книжку на пол.
– Дрянь ты, а не книга! – сказал он и заплакал.
По-прежнему мальчишки распевали свою гнусную дразнилку о Линде. Смеялись и над тем, какой он оборванный. Линда не умела чинить рваное. В Заоградном мире, говорила она ему, если что порвется, сразу же выбрасывают и надевают новое. «Оборвыш, оборвыш!» – дразнили мальчишки. «Зато я читать умею, – утешал он себя, – а они нет. Не знают даже, что значит читать». Утешаясь этим, было легче делать вид, что не слышишь насмешек. Он снова попросил у Линды ту книжку.
Чем злее дразнились мальчишки, тем усерднее читал он книгу. Скоро уже он разбирал в ней все слова. Даже самые длинные. Но что они обозначают? Он спрашивал у Линды; но даже когда она и в состоянии была ответить, то ясности особой не вносила. Обычно же ответить не могла.
– Что такое химикаты? – спрашивал он.
– А это соли магния, или спирт, которым глушат рост и отупляют дельт и эпсилонов, или углекислый кальций для укрепления костей и тому подобные вещества.
– А как делают химикаты, Линда? Где их добывают?
– Не знаю я. Они во флаконах. Когда флакон кончается, то спускают новый из Химикатохранилища. Там их и делают, наверно. Или же с фабрики получают. Не знаю. Я химией не занималась. Я работала всегда с зародышами.
И так вечно, что ни спроси. Никогда Линда не знает. Старики племени отвечают куда определеннее.
«Семена людей и всех созданий, семя солнца, и земли, и неба – все семена сгустил Авонавилона из Мглы Возрастания. Есть у мира четыре утробы; в нижнюю и поместил он семена. И постепенно взрастали они…»
Придя как-то домой (Джон прикинул позже, что было это на тринадцатом году его жизни), он увидел, что в комнате на полу лежит незнакомая книга. Толстая и очень старая на вид. Переплет обгрызли мыши; листы некоторые измяты, вылезают. Он поднял книгу, взглянул на заглавный лист: «Сочинения Уильяма Шекспира в одном томе».
Линда лежала в постели, потягивая из чашки мерзкий свой вонючий мескаль.
– Ее Попе принес, – сказала Линда сиплым, грубым, чужим голосом. – Валялась в Антилопьей киве, в одном из сундуков. Сотни лет уже провалялась, говорят. И не врут, наверно, потому что полистала я, а там полно вздора. Нецивилизованность жуткая. Но тебе пригодится – для тренировки в чтении. – Она допила, опустила чашку на пол, повернулась на бок, икнула раза два и заснула.
Он раскрыл книгу наугад.
…Похоти рабой
Жить, прея в сальной духоте постели,
Елозя и любясь в свиной грязи…
Необычайные эти слова раздались, раскатились громово в мозгу, как барабаны летних плясок – но барабаны говорящие; как хор мужчин, поющих Песнь зерна – красиво, красиво до слез; как волшба старого Митсимы над молитвенными перьями и резными палочками, костяными и каменными фигурками – кьятла тсилу силокве силокве силокве. Кьяи силу силу, тситль, – но сильнее, чем волшба Митсимы, потому что эти слова больше значат и обращены к нему, говорят ему чудесно и наполовину лишь понятно – грозная, прекрасная новая волшба, говорящая о Линде; о Линде, что храпит в постели, и пустая чашка рядом на полу; о Линде и Попе, о них обоих.
Все горячей ненавидел он Попе. Да, можно улыбаться, улыбаться – и быть мерзавцем. Безжалостным, коварным, похотливым. Слова он понимал не до конца. Но их волшба была могуча, они звучали в памяти, и было так, словно теперь только начал он по-настоящему ненавидеть Попе – потому что не мог раньше облечь свою ненависть в слова. А теперь есть у него слова – волшебные, поющие, гремящие, как барабаны. Слова эти и странный, странный сказ, из которого слова взяты (темен ему этот сказ, но чудесен, все равно чудесен), – они обосновали ненависть, сделали ее острей, живей; самого даже Попе сделали живей.
Однажды, наигравшись, он пришел домой – дверь спальной комнатки растворена, и он увидел их, спящих вдвоем в постели, – белую Линду и рядом Попе, почти черного; Линда лежит у Попе на руке, другая темная рука на груди у нее, и одна из длинных кос индейца упала ей на горло, точно черная змея хочет задушить. На полу возле постели – тыква, принесенная Попе, и чашка. Линда храпит.