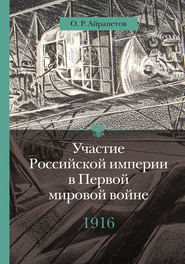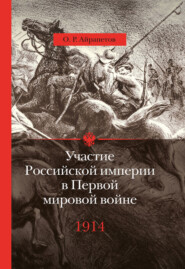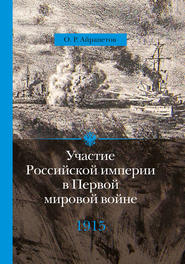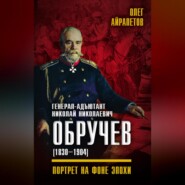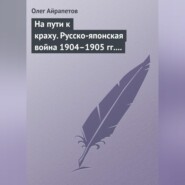По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Портрет на фоне эпохи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. Швейниц – очень внимательный и умный наблюдатель – также не прошел мимо негативных качеств Военного министра, отметив его нетерпимость к выдающимся личностям не только в своем кругу, но даже в окружении императора
.
Когда Обручев, поддержанный начальником Главного штаба, представил министру записку полковника Ф. А. фон Фельдмана – русского военного агента в Австрии – о желательности учреждения в России Генерального штаба по образцу прусского, то Милютин вновь отрицательно отнесся к этой идее, взглянув на это предложение как на «сепаратистскую попытку, на желание вырвать у него часть власти»
. Личные качества Д. А. Милютина и конфликт с Барятинским определили, на мой взгляд, изменение позиции Милютина. В начале пятидесятых годов он придерживался других взглядов на Генеральный штаб: «При нынешнем устройстве армии необходимость Генерального штаба не подлежит сомнению. Но в особенности необходимо это учреждение для нашей армии, столь многочисленной, действующей в столь разнообразных странах и притом имеющей менее образованных и ученых офицеров»
. Если в бытность профессором Академии Д. Милютин отстаивал как минимум организационную самостоятельность корпуса офицеров Генерального штаба
, то в своем докладе по министерству от 15 января 1862 года он планировал, чтобы Генеральный штаб в будущем не составлял «слишком специального установления»
.
В 1863 году приказом Военного министра от 16 октября вводилось в виде опыта на два года Главное управление Генерального штаба (ГУГШ). ГУГШ поручались следующие дела: 1) по личному составу управления и всех чинов ГШ и корпуса топографов; 2) по размещению, передвижению и действию военно-сухопутных сил империи; 3) по контролю в военном отношении над пограничными с Азией частями империи; 4) по учебным, ученым, военно-топографическим и хозяйственным вопросам управления
.
В общие обязанности ГУГШ, кроме исправления административных задач, входило составление предположений о маневрах, планов военных действий и приведение в исполнение мер, зависящих от ГШ, для приготовления войск к походу
. ГУГШ возглавлял генерал-квартирмейстер, в него входили вице-директор по части ГШ, управляющий топографической частью, начальник Николаевской академии ГШ. Управление состояло из канцелярии, Совещательного комитета, двух особых инспекторских столов – по генеральному штабу и корпусу топографов, трех отделений по ГШ и двух по топографическому отделу и из Николаевской академии
. Особую роль в ГУГШ играл Совещательный комитет, как и канцелярия управления, подчиненный непосредственно генерал-квартирмейстеру. Совещательный комитет состоял из четырех отделов: 1) тактического; 2) военно-исторического; 3) военно-статистического; 4) геодезического и военно-топографического.
В комитет, кроме председательствующего, входили вице-директор по части ГШ, управляющий военно-топографической частью, начальник Николаевской академии и десять переменяющихся членов, восемь из которых должны были быть генералами или штаб-офицерами ГШ или корпуса топографов, один – из артиллерийского, один – из инженерного ведомства. Правами членов комитета могли пользоваться профессора Николаевской академии ГШ, инспектор училища топографов и редакторы военных журналов для участия в обсуждении вопросов, составляющих специальность
. Совещательный комитет занимался следующими вопросами: 1) военно-учеными и учено-административными (по поручению Военного министра или генерал-квартирмейстера); 2) предположениями, изобретениями и последними сочинениями, касающимися службы ГШ и корпуса топографов; 3) составлением инструкций по военно-учебной, статистической геодезической частям; 4) распространением военных знаний среди офицеров ГШ; 5) следить за военно-учеными работами офицеров ведомства; 6) наблюдать за образованием учащихся училища топографов
.
Очевидно, что собственно функции Генерального штаба были сосредоточены в Совещательном комитете, членом и делопроизводителем которого был назначен Обручев. Временный характер этого нововведения объясняется, на мой взгляд, как отрицательным отношением к нему Милютина, так и тем, что новая для того времени прусская система еще не успела проявить свои преимущества. Однако в 1866 году победа Пруссии наглядно продемонстрировала их вдумчивым наблюдателям. Но таких людей было мало и в России, и во Франции, и в Австрии. Судьба их часто складывалась трагически. После первых же неудач французской армии во франко-прусской войне именно полковника Стоффеля, предупреждавшего об опасности, исходившей от Большого Генерального штаба Пруссии, обвинили в том, что он не выполнил свой долг перед Отечеством
. На следствии после войны выяснилось, что донесения французского военного агента в Пруссии остались нераспечатанными
.
В 1865 году Д. А. Милютин настоял на слиянии ГУГШ и инспекторского департамента в Главный штаб. «Однако правильная в принципе мысль получила не совсем верное осуществление на практике. Анализируя структуру Главного штаба, нетрудно установить, что функции собственно генерального штаба занимали в нем очень небольшое место. Лишь одно из шести его отделений ведало крайне разнообразными вопросами, связанными с деятельностью генерального штаба»
. Об образовании Главного штаба было объявлено 1 января 1866 года. Д. А. Милютин так оценивал создание этого органа: «Сосредоточение же в Главном штабе всего делопроизводства по организации и устройству армии значительно облегчило мою работу… Полагаясь вполне на такого дельного и добросовестного помощника, каков был граф Федор Логгинович Гейден, я мог освободить себя от подробностей текущего делопроизводства, оставив за собою лишь высшее руководство и направление деятельности Министерства»
.
Таким образом, можно утверждать, что Милютину удалось сделать из Главного штаба то, что хотел сделать из Военного министерства Барятинский. Тем не менее сотрудники Совещательного комитета не сразу осознали роль, уготованную им Военным министром. Первое заседание Комитета состоялось 13 декабря 1863 года. Председательствовал генерал-квартирмейстер А. И. Веригин. Среди 12 членов Комитета было шесть уже пожилых генералов – Стефан, Бларамберг, Голицын, Богданович, Леонтьев, Мещеринов, и шесть молодых старших офицеров – Мезенцев, Лаврентьев, Тютиков, Обручев, Беляев, Безус
. Заседание было открыто речью Веригина, в которой он обратил внимание членов Комитета на следующие четыре направления как наиважнейшие для их будущей деятельности:
1. Картография – так как имевшиеся в России три вида карт: а) военно-дорожная в масштабе 40 верст в одном дюйме; б) специальная – десять верст в одном дюйме; в) трехверстная (имелись карты такого типа только для Западной России) устарели, их также не могли заменить карты, издаваемые Русским географическим обществом – предлагалось провести обширную картографическую съемку губерний империи.
2. Военно-статистическая работа, включавшая в себя две задачи: а) удовлетворить потребности Генерального штаба в сведениях, необходимых для военного планирования; б) опубликовать данные, полезные для общественности и науки (санитарное описание империи, санитарная карта империи, военно-статистическое описание империи).
3. Военно-историческая работа, так как в это время в основных европейских армиях работы по военной истории организовывались и распространялись в основном Генеральными штабами, а в России только отдельными личностями; предполагалось проводить впредь эту работу под контролем Комитета.
4. «Обязанности к войскам», состоявшие в выработке способов и форм усовершенствования инспекционных отчетов Генерального штаба по войскам, особенно по вопросам учебным и тактическим, как то: стрельба, гимнастика, фехтование, грамота, маневрирование.
Предполагалось также составить устав, определявший порядок перевозки войск по железным дорогам и водным путям
. Контрольную и координирующую работу Комитета, подготовку заседаний проводил его делопроизводитель – полковник Н. Н. Обручев, назначенный на этот пост в декабре 1863 года
.
Начиная со второго, на заседания Комитета стали приглашать обер-квартирмейстера Отдельного Гвардейского корпуса Х. Х. Роопа и редакторов военных журналов – ген.-м. П. К. Менькова. и полк. Д. И. Романовского. В случае необходимости приглашались и профессора Николаевской академии Генерального штаба. Комитет спешил, и прежде всего был разработан проект военно-исторических работ на 1864 год. Среди приоритетных тем были указаны:
– русско-турецкая война 1828–1829 годов;
– история присоединения Грузии до 1803 года;
– занятие позиций у Дуная в 1853 году с подробным описанием и разбором сражения при Ольтенице;
– действия русских войск в Малой Валахии;
– в Крымскую войну: переправа через Дунай и действия под Силистрией;
– дело при Инкермане;
– партизанские действия в Азиатской Турции в 1855 году при обложении крепости Карс;
– последние действия против Шамиля (Ведень, Гуниб и др.)
.
Для того чтобы стимулировать написание статей и монографий, были установлены премии: за описание войны – 1000 руб. сер. и более, за труд по военной администрации – от 50 до 75 руб. сер. за печатный лист
. Лучшие статьи должны были публиковаться в «Военном сборнике». Нетрудно заметить, что все выбранные приоритетные темы касались двух традиционных театров военных действий на Восточном направлении – Кавказского и Балканского, а семь из девяти тем предполагали анализ последней войны в этом регионе. Очевидно, что для военных было ясно, в каком направлении воевать в будущем. Характерно, что ни Швеция, ни Пруссия, ни Австрия при разработке плана военно-исторических работ не попали в сферу внимания офицеров Комитета.
На втором заседании Комитета, помимо определения тем исследования, была составлена специальная комиссия для рассмотрения «Лекций тактики в Учебном батальоне» капитана Г.Ш. М. И. Драгомирова. В комиссию вошли ген.-м. А. Н. Леонтьев и полковники Н. Н. Обручев и П. И. Мезенцев. 8 февраля 1864 года Комитет заслушал отчет комиссии, члены которой внимательно изучили труд Драгомирова и положительно его оценили. Особо была выделена самостоятельность автора, который «…впервые развивает во всей подробности способ обучения войск с тактической точки зрения, и, что заслуживает особого одобрения, проникнуто (произведение. – О. А.) стремлением вселить в читателя твердое убеждение в преимуществах штыка для достижения решительных боевых результатов»
. Несколько лет назад Обручев подчеркивал значение винтовочного огня и рассыпного строя в будущих войнах
, а теперь склонился к выводу о преимуществе штыка перед пулей и, следовательно, к превосходству сомкнутого строя пехоты. Чем дальше была Крымская война, тем быстрее забывались ее уроки.
Опыт боев на Кавказе и в Туркестане, в которых победа прежде всего достигалась за счет преимущества в стрелковом оружии, не учитывался при подготовке к «настоящей» войне, а в Европе французы, немцы и австрийцы по-прежнему верили в штык и в атаку сомкнутым строем. Впрочем, все, конечно, развивали стрелковое оружие и артиллерию. Те, кто более всего недооценивал возросшую мощь огня, платили за это наибольшую цену. Многие этого не замечали. Казалось, практика большой европейской войны возвращается «на круги своя», к началу ХIХ века. Сомкнутые массы французской (в 1859 году) и прусской (в 1866 году) пехоты дважды за десятилетие после Парижского мира (1856) штыковыми атаками сокрушали австрийцев. Впрочем, цена этих атак была чрезмерно высокой, а успех их подготавливался огнем. Франко-итальянская и австро-прусская войны показали рост важности современной винтовки и орудия. Эта тенденция многими была не замечена.
М. И. Драгомиров, бывший наблюдателем при прусской армии в австро-прусскую войну, особенно отличал среди прусского генералитета Фойгт-Реца и Штейнмеца. Генерал-лейтенант Карл-Фридрих фон Штейнмец на 71-м году жизни встал во главе V Армейского корпуса I армии Кронпринца. 15, 16 и 17 июня 1866 года его V корпус по очереди разгромил три австрийских корпуса, атакуя их, в том числе и на укрепленных позициях. Этот успех во многом обеспечил прусскую победу при Садовой (3 июля 1866 года). В беседе с Драгомировым Штейнмец (кстати, он хорошо знал русский язык) так изложил свое кредо решительных штыковых атак и побед, за ними следующих: «Эти вещи удаются просто: посланные в атаку части, в случае неудачи, посылаются вновь и посылаются до тех пор, пока не дадут полного успеха»
. Таковым было настроение времени. Неудивительно, что Комиссия рекомендовала труд Драгомирова, в недалеком будущем одного из ведущих русских военных теоретиков, к напечатанию
. Кроме того, Совещательный комитет принял решение о подготовке десятиверстной карты Европейской России.
На службе в Главном штабе