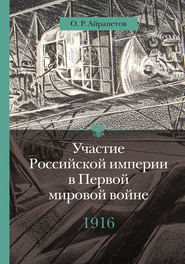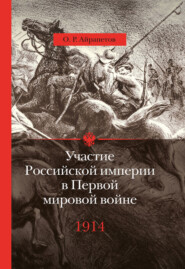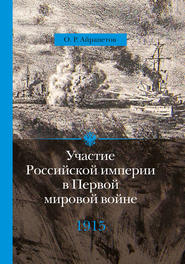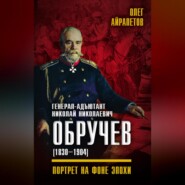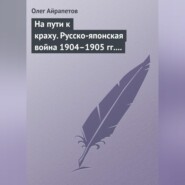По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Портрет на фоне эпохи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
, что вызвало некоторую задержку в пересылке документов – в Департамент генерального штаба они пришли уже из Вильно, 25 февраля 1863 года
.
Таким образом, версия поведения Обручева во время Польского восстания, данная Газенкампфом или Николаем Николаевичем (старшим), не подтверждается – в 1863 году он не совершал поступков, граничащих с дезертирством и нарушением присяги. Уже в 1864 году Обручев предупреждал о необходимости впредь быть лучше готовым к отражению в Польше и прилегающих к ней районах юго-восточной Европы враждебных России настроений
. Период увлечения либеральными настроениями, условным началом которого для Обручева был радостный тост в день смерти Николая I, завершился во время польского восстания 1863 году.
Этим и объясняется относительно нормальное продолжение карьеры Обручева. К 1865 году средний возраст полковника русской армии составил 43,87 года, в гвардейской пехоте – 36,2 года
. Полковник с 1859 года, Обручев не мог пожаловаться на несправедливость командования к себе. В 1864 году он испросил отпуск за границу на летнее каникулярное время – врачи рекомендовали ему Киссингенские минеральные воды и морское купание для поправления здоровья
. Начальник академии ген.-л. А. Н. Леонтьев поддержал просьбу Обручева, но предложил объединить этот отпуск с командировкой и поручить Николаю Николаевичу собрать сведения: 1) об аппликационной школе французского генерального штаба; 2) об устройстве геодезических работ во Франции и вообще полезные для военной статистики данные; 3) встретиться с бароном Жомини и поговорить с ним о проекте нового устава Академии, ознакомить его с проектом нового Устава Академии, ознакомить с последними изменениями в ней, с отчетом Конференции; 4) собрать для библиотеки Академии некоторые новые книги
.
Предложение Леонтьева было принято и Обручевым, и штабом Военно-учебных заведений. В июне – октябре 1864 года Обручев находился за границей, а по возвращении им был представлен рапорт-отчет на имя Леонтьева. Безусловно, наиболее интересным для Обручева была работа в аппликационной школе и встреча с основателем службы Генерального штаба и академии ГШ в России – генералом от инфантерии бароном Генрихом Жомини.
86-летний генерал-адъютант живо интересовался судьбой своего детища, встретив молодого полковника вопросом: «Наша Академия действительно ли академия, а не простая школа?»
. Он подтвердил свое всегдашнее мнение, что Николаевская академия должна существовать как военный университет, как центр военной науки и распространения военного образования на всю армию, – мнение, которого постоянно придерживался и Обручев. Что же касается аппликационной шкалы, то выводы Николая Николаевича были полностью повторены в отчете Конференции Академии за 1864 года: «…желая придать занятиям офицеров более практическое направление, Конференция признала полезным иметь в виду самые подробные и обстоятельные сведения о французской Аппликационной школе, которая отличается утилитарным направлением. С этой целью, воспользовавшись поездкою полковника Обручева за границу, Конференция поручила ему возможно ближе ознакомиться с существующими положениями для аппликационной школы, с ее курсами и программами»
.
Обручев отметил, что «при преподавании наук во Французской Аппликационной школе все учение непосредственно направлено к тому, чтобы ознакомить молодых людей с приложением своих знаний к делу: выучить их действовать, работать. Но вместе с тем научные сведения, сообщаемые в школе, весьма поверхностны и отрывочны»
. Из этого и Обручев, и Конференция Академии делали вывод, полностью совпадающий с представлениями Жомини, – наша Академия функционирует прежде всего как научное заведение, и в таком качестве она остается несравненно полезнее своего французского аналога. Примерно на таких же принципах, как и в России, была создана Академия генерального штаба в Берлине. Принципы эти были просты: «Кто еще в мирное время (выделено мной. – О. А.) не позаботился изучить все вероятные театры войны и своих возможных противников, кто не следил внимательно и подробно за тем, что делается у соседей, кто не усвоил себе сложную технику ведения войск на театре войны и в бою, – тому уже некогда научиться этому в военное время, приходится действовать наудачу, а игра на „авось“ в наше время имеет слишком мало шансов на успех»
.
Справедливость превосходства военной науки над военной дидактикой была доказана при их непосредственном боевом поединке на полях сражений 1866-го и 1870–1871 годов. Однако в Пруссии Академия генерального штаба принесла весьма ощутимую пользу Германии, прежде всего благодаря существованию Большого Генерального штаба, созданного Мольтке-старшим. В России по ряду причин в шестидесятые годы XIX века шел поиск форм организации подобной службы, приведший к созданию Военно-Ученого комитета (ВУК), в котором и продолжил службу Николай Николаевич Обручев.
Глава II
К проблеме Генерального штаба. – Положение дел в России. – На службе в Главном штабе
К проблеме Генерального штаба
Двенадцать лет с 1863-го по 1875 год представляют собой период исключительной важности для Обручева и для русской армии. Это было время изменений в организации, подготовке, наконец, философии войны в ведущих армиях мира, совпадавшее с периодом реформ Вооруженных сил России. В своей фундаментальной работе «Военные реформы 1860–1870 годов в России» П. А. Зайончковский детально рассмотрел споры по вопросу о выборе путей развития реформы в системе комплектования, вооружения армии, военном образовании, а также процесс реализации этих изменений. Определенным недостатком этой замечательной во всех отношениях работы является ее «милютиноцентричность». Основным источником Зайончковского были документы Д. А. Милютина – воспоминания и ежегодные отчеты, что иногда ставит под вопрос некоторые выводы, сделанные историком.
Господство школы П. А. Зайончковского в советской и постсоветской историографии, заслуженный авторитет этого выдающегося историка, – все это на долгое время приостановило объективное изучение военных реформ правления императора Александра II. Некоторыми характерными особенностями наследия Зайончковского был отрыв милютинских преобразований от их предыстории в николаевском правлении, как и явная политизация противопоставления «благотворных» либеральных преобразований их «отсталым» критикам, которых для убедительности часто зачисляли в ретрограды или даже в крепостники. Весьма условным можно назвать и общую положительную оценку результатов проверки реформ армии в деле – на полях сражений русско-турецкой войны 1877–1878 годов
. Из поля внимания школы Зайончковского по вполне понятной причине выпала и история высшего военного управления. Ведь Милютин не был сторонником создания независимого Генерального штаба. Последнюю проблему стоит признать сложной, а историю ее – очень запутанной.
Российская система управления, в том числе и военного, была недостаточно дифференцирована и структурирована. Даже жесткая централизация порой сочеталась со слабой институциональной иерархией органов управления. Отсутствовал юридически оформленный институт и механизм принятия решений. В этой обстановке борьба взглядов превращалась в соперничество личностей, а не концепций, немало вредившее общему делу. Основные противники России в Европе ко второй половине XIX века уже перешли к этапу формирования индустриального общества. С Великими реформами этот этап открывала для себя и Россия. Задачи управления, организации, планирования резко усложнялись. Решение этих задач требовало создания хорошо организованной бюрократии. В военном деле эта организация, на мой взгляд, соответствует делению военного ведомства на орган военного администрирования и орган военного планирования, боевой подготовки и боевого руководства войск – Генеральный штаб.
1863–1875 годы Обручев провел на службе в Совещательном и Военно-Ученом комитетах Главного штаба, которые представляли собой особую стадию в истории становления русского Генерального штаба. Сходные процессы происходили во всех основных европейских армиях. Но, прежде чем обратиться к деятельности Обручева в Военно-Ученом комитете (далее ВУК), считаю необходимым остановиться на проблеме истории создания такого института, как Генеральный штаб.
Армии, основанные на профессиональном принципе, в том числе и русская армия, не нуждались в сложном механизме предварительного планирования войны и управления боевыми действиями, по причине малочисленности войск, задействованных на поле боя. Полевая армия в 100–120 тысяч человек была скорее исключением, чем правилом, аномалией этого периода (я исключаю азиатские армии, имевшие другой принцип комплектования). Одной из самых сильных армий ХVI века в Европе была армия Карла VI, с которой он осаждал крепость Мец. Ее численность достигала 100 тыс. чел. Иногда такой же величины достигала французская армия, например при Людовике ХIV. Правда, значительная часть таких гигантов, потрясавших воображение современников, распределялась по гарнизонам. В поле выводились не столь многочисленные подразделения, да и те часто действовали раздельно. В Семилетнюю войну полевые армии не превышали численности в 60–70 тыс. чел.
Французская революция привнесла изменения в старый принцип комплектования. Клаузевиц, живой свидетель этих изменений, писал: «В Средние века военная мощь была в руках дворянства и аристократии; за последние столетия она стала собственностью монархов, базирующейся на их финансовой и административной системе; в новейшее время она стала показателем всей национальной мощи»
. Численность французской армии к концу XVIII – началу XIX века многократно возросла. Одним из первых актов революционного правительства был декрет о пополнении армии только добровольцами (1789). Однако в 1792 году было собрано только 83 тыс. волонтеров. Войны с коалициями, окружавшими Францию, покончили с прекраснодушным подходом к делу обороны страны и уж тем более к делу ее агрессии. В 1793 году был объявлен рекрутский набор на 300 тыс. чел., а потом массовая мобилизация (Levйe en masse) всех граждан, годных к несению воинской службы, в возрасте от 18 до 25 лет. К 1794 году французская армия достигла невиданной в то время цифры в 750 тыс. чел.! В 1798 году под названием конскрипции во Франции фактически была введена всеобщая воинская повинность. С 1792-го по 1815 год на службу было призвано 4 400 000 чел. (!), причем в течение 14,5 месяцев в 1812–1813 годах было призвано 1 237 000 чел.
Соседние страны, пострадавшие от французской агрессии, вынуждены были частично заимствовать принцип организации противника (в частности, Пруссия, в меньшей степени – Австрия) или наращивать численность армии более привычным путем (Россия). Армия в 100–150 тысяч человек становится теперь правилом. Управление войсками значительно усложнилось. Генеральный штаб наполеоновской армии развивался под спудом личности своего императора: «Наполеон относился к генеральному штабу не особенно дружелюбно, хотя и любил своего начальника штаба Бертье, одного из представителей старого генерального штаба. Остановив наше внимание на Бертье, мы сможем уяснить, что требовалось Наполеоном от генерального штаба. Бертье был, в сущности, не кем иным, как начальником связи у Наполеона, но отнюдь не начальником штаба, ни даже начальником оперативного управления»
. Тем не менее Наполеон оказался не в состоянии справиться с управлением армии в одиночку ни под Лейпцигом, где «битва народов» фактически распалась на ряд самостоятельных сражений, ни под Ватерлоо, где отсутствие маршала Луи Бертье привело к известным последствиям.
Наполеон ценил Генеральный штаб как службу по поручениям. «Однако с ростом армии росло значение штабной службы, но до самой смерти маленького капрала оно не выкристаллизовалось еще в службу генерального штаба»
. Штаб, укомплектованный специалистами по управлению координации действиями частей войск, становился необходимым элементом организации армии. Идя по пути наращивания количественных показателей: количества штыков, сабель, унифицируя и наращивая артиллерию (вспомним высказывание Наполеона: «войну выигрывают большие батальоны»), современники столкнулись с ситуацией, когда успех обеспечивали уже не количественные, а качественные показатели.
Превосходство в организации управления в войне XIX века становится более важным, чем численное превосходство. Прежде всего это превосходство проявилось в войнах за объединение Германии. Если первая из них – война Германского союза против Дании – не была отмечена чем-то особо интересным, если, конечно, не считать того, что маленькое королевство в 1864 году почти четыре месяца оказывало сопротивление армиям двух великих держав – Австрии и Пруссии, на стороне которых выступили контингенты из Саксонии и Ганновера
, то последовавшая за ней война Пруссии с Австрией и ее союзниками представляла собой уже совсем другое зрелище. Это был поединок, в котором организация явно превосходила по важности фактор численности.
Армия и флот Пруссии в 1866 году составили 253 батальона, 200 эскадронов, 144 батарей с 864 орудиями. Вместе с ландвером 1-го и 2-го призыва, запасными войсками в состав армии вошло 557 765 чел. Во время войны с Австрией численность действующей армии Пруссии составила 323 400 нижних чинов, 8400 офицеров и 26 600 нестроевых
. Прусский Генеральный штаб и Военное министерство сумели гораздо быстрее провести мобилизацию, эффективно используя систему железных дорог (первый такой опыт был получен в мае 1850 года). За 25 дней на границах Саксонии и Баварии было сосредоточено 285 тыс. чел., 48 тыс. чел. было отправлено против южно-германских государств
.
В 1865 году австрийская армия по мирным штатам насчитывала 374 371 чел., в случае войны по планам, существовавшим в основном на бумаге, предполагалось ее увеличение до 729 915 чел.
В результате огромных усилий с 1859-го по 1866 год Вена смогла довести реальную численность своей армии при мобилизации до 528 тыс. чел., из которых 400 тыс. могли быть выделены в две полевые армии. В Богемию, где должна была решиться судьба Германии, австрийцы смогли выделить семь армейских корпусов и пять кавалерийских дивизий – 238 тыс. чел., при этом на 45-й день мобилизации сосредоточить удалось лишь 200 тыс. чел. Только с помощью 23 тыс. саксонцев, отступивших на территорию Австрии, фельдмаршал Людвиг-Август фон Бенедек смог достичь численного паритета с пруссаками
.
На бумаге Вена могла рассчитывать на помощь членов Германского союза. Самое сильное из средних государств – Бавария – могло выставить до 200 тыс. чел. при 272 орудиях. Армия Вюртемберга в военное время насчитывала до 60 тыс. чел.
Однако средние и малые государства практически ничего не успели сделать. В кратчайший срок пруссаки заняли территории Ганновера, Саксонии, Кургессена и Нассау
. Франц-Иосиф явно недооценивал военное образование и противился созданию Генерального штаба. «Качество моей армии, – говорил он, – зависит не от обученных офицеров, а от храбрых и благородных людей»
. 17 июня Пруссия объявила войну Австрии. Поначалу австрийцы были уверены в успехе. Командование не скрывало своего презрения к пруссакам и было уверено в близости своей будущей победы. Общественное мнение также ждало быстрых и решительных успехов
. Офицеры приказывали солдатам надевать шинели, чтобы не испачкать белые мундиры перед скорым торжественным вступлением в Берлин
.
Вскоре австрийцам пришлось расплачиваться за высокомерие, недооценку противника и ставку на храбрость и благородство в противовес образованию. Уже 3 июля 1866 года 221 тыс. пруссаков при 770 орудиях разгромили под Кенигрецем (совр. Садова, Чехия) 271-тысячную австрийскую армию, имевшую 792 орудия. Союзники потеряли 1368 офицеров и 42 945 нижних чинов, из них 22 173 пленными. Пруссаки захватили 187 орудий (из них 50 в последний момент сражения), потеряв 359 офицеров и 8794 солдата
. На последнем этапе сражения Бенедек не справился с организацией отхода армии. Захватив господствующие высоты над долиной, по которой отступали австрийцы, пруссаки подвергли их интенсивному обстрелу. Началась паника, войска отходили в полном беспорядке. Поля были заполнены трупами в белых австрийских мундирах, пехота бежала к Эльбе, и здесь неминуемо произошла бы трагедия, если бы Бенедек не озаботился строительством в своем тылу семи дополнительных мостов
.
«Многие полагают, – гласило обозрение органа русского Военного министерства, – что главная причина всех вообще неудач австрийцев на северном театре войны заключается в превосходстве вооружения пруссаков, именно в их игольчатых ружьях. Отчасти это справедливо, но только отчасти: пруссакам доставляет победу не одно только превосходство их вооружения, но – что более важно – превосходство их нравственных сил и распорядительность их начальников»
.