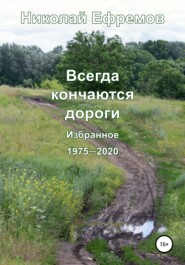По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разбирая завалы лжи. О некоторых легендах и мифах советского периода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
25 февраля (10 марта) 1917 года
С раннего утра были выставлены военно-полицейские заставы у мостов и на набережных Невы.
Бастовало уже 305 тысяч человек на 421 предприятии. Многотысячные колонны демонстрантов перешли Неву прямо по льду и устремились в центр столицы. К демонстрантам стали присоединяться ремесленники, служащие, интеллигенция. Появились лозунги «Хлеб, мир, свобода!», «Долой правительство!», «Долой царя!», «Да здравствует республика!».
«Николай II узнал о начале революции около 18–00 из двух параллельных источников – одно донесение поступило от Хабалова через начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала М. В. Алексеева, второе пришло от министра внутренних дел Протопопова через дворцового коменданта В. Н. Воейкова. Ознакомившись с обоими донесениями, царь потребовал телеграммой от Хабалова решительного прекращения беспорядков в столице. Ночью сотрудники охранного отделения произвели массовые аресты» («Википедия»).
26 февраля (11 марта) 1917 года
С утра были разведены мосты через Неву, однако демонстранты переходили реку по льду. Войска были сосредоточены в центре, солдатам раздали патроны. Столкновения с армией и полицией стали ожесточённее, счёт погибших шёл на сотни. На окраинах появились первые баррикады. Бастовало уже 306,5 тысяч человек 438 предприятий.
Солдаты 4-й роты запасного батальона лейб-гвардии Павловского полка открыли огонь по собственным офицерам и полиции. Мятеж был подавлен силами Преображенского полка. Часть солдат дезертировала с оружием. Военный министр генерал М. А. Беляев предложил отдать виновных в мятеже под трибунал и казнить, однако Хабалов не решился на столь жёсткие меры и ограничился арестом.
Родзянко в 17–00 отправил царю телеграмму, в которой говорилось о том, что «в столице анархия» и «части войск стреляют друг в друга». Ответа на неё он не получил. Николай II сказал министру императорского двора В. Б. Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко пишет мне всякий вздор».
Вечером на квартире у председателя Совета министров князя Н. Д. Голицина собралось «частное совещание» правительства. Голицын решил «объявить перерыв» в работе Государственной думы и Государственного совета до апреля, доложив об этом Николаю II. Указ о роспуске законодательных палат за подписью императора был сообщён по телефону председателю Госдумы М. В. Родзянко.
Также на совещании было принято решение объявить в Петрограде осадное положение. Однако властям даже не удалось расклеить объявления об этом – их срывали.
Поздно вечером Родзянко отреагировал на решение о приостановлении работы Думы – «последнего оплота порядка», – ещё одной телеграммой в Ставку. Он просил отменить указ о роспуске Думы и сформировать новое правительство – «ответственное министерство».
«…В противном случае, по его словам, если революционное движение перебросится в армию, "крушение России, а с ней и династии, неминуемо". Копии телеграммы были разосланы командующим фронтам с просьбой поддержать перед царём это обращение. На эти панические телеграммы Родзянко Ставка, однако, не отреагировала» («Википедия»).
27 февраля (12 марта) 1917 года
В Петрограде началось вооружённое восстание. Мятеж подняла учебная команда запасного батальона лейб-гвардии Волынского пехотного полка численностью около 600 человек. Солдаты, возглавляемые унтер-офицером Тимофеем Кирпичниковым, убили командира, освободили арестованных, содержащихся на гауптвахте, присоединились к рабочим и захватили артиллерийские орудия из мастерских Орудийного завода.
Вооруженные демонстранты направились к Финляндскому вокзалу. По дороге к ним присоединились несколько десятков тысяч солдат. На площади вокзала шли многотысячные митинги. Общее количество демонстрантов превысило 400 тысяч человек. Народ стал освобождать тюрьмы.
Узнав о вооружённом восстании, генерал Алексеев предложил для восстановления спокойствия в Петрограде направить туда сводный отряд во главе с начальником, наделённым чрезвычайными полномочиями.
Николай II распорядился собрать войска – по одной бригаде пехоты и кавалерии от Северного и Западного фронтов (всего четыре пехотных и четыре кавалерийских полка), Георгиевский батальон и пулеметную команду, вооружённую пулемётами Кольта, назначил командовать этим сводным отрядом генерал-адъютанта Н. И. Иванова, и приказал ему направиться сначала в Царское Село, для обеспечения безопасности императорской семьи, а затем, в качестве командующего Петроградским военным округом, в столицу, «с полномочиями диктатора».
При этом в первый день восстания речь шла лишь об усилении гарнизона Петрограда «прочными полками» с фронта. Позднее, когда остатки верных правительству подразделений гарнизона капитулировали, началась подготовка военной операции против столицы в целом.
Как рассказывал очевидец событий, «…Отправляя Иванова с пулеметной командой, царь отнюдь не связывал себя обещаниями реформ… На прощание Иванов сказал: "Ваше величество, позвольте напомнить относительно реформ". Царь ответил ему: "Да, да, мне об этом только что напоминал ген. Алексеев". Вот и все». («Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев» – Электронная библиотека «Литмир»).
Во второй половине дня вооружённое восстание начало распространяться за пределы Петрограда.
В Таврическом дворце, где заседала Государственная Дума, депутаты, формально подчинившиеся указу о роспуске, продолжили работу под видом «частного совещания», и сформировали новый орган власти – «Временный комитет» («Комитет членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями»), ставший центром протестного движения. Возглавил его Родзянко. Большевиков в нём не было, все депутаты-большевики находились на каторге в Туруханском крае.
Как писал впоследствии лидер конституционных демократов П. Н. Милюков, «…Вмешательство Государственной думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии».
Вечером того же дня в других залах Таврического дворца депутаты левых фракций собрали Временный исполнительный комитет Петроградского совета рабочих депутатов – Петросовета, который создал постоянный Исполнительный комитет Петросовета. В стране появился второй, альтернативный орган власти. Далее о нём будет рассказано подробно.
Около 16 часов правительство Российской империи собралось в Мариинском дворце на своё последнее заседание. Было принято решение отправить в отставку министра внутренних дел А. Д. Протопопова, вызывавшего наибольшее раздражение у оппозиции (что привело к ещё большему параличу власти), и направить Николаю II телеграмму о том, что правительство не может справиться с создавшимся положением, предлагает себя распустить и назначить «ответственное министерство» во главе с председателем – лицом, пользующимся общим доверием, а именно с князем Львовым или Родзянко. Не дождавшись ответа, министры разошлись.
Николай II отказался принимать отставку правительства, приказал направить в Петроград войска и решил лично прибыть в Столицу.
«Временный комитет» Госдумы объявил, что берёт власть в городе в свои руки.
В столице начались погромы полицейских участков, убийства полицейских и офицеров, грабежи и мародёрства. Толпа разгромила и сожгла дом министра императорского двора Фредерикса как «немецкий», хотя Фредерикс имел не немецкие, а шведские корни, его род с первой половины XVIII века состоял на русской службе, во второй половине XVIII века получил баронский титул.
Вечером было разгромлено Петроградское охранное отделение.
Вот что пишет о вечере того дня «Википедия»:
«Примерно в половине одиннадцатого вечера со Ставкой связался по прямому проводу брат Николая II, великий князь Михаил Александрович. Днём он приехал из своего загородного дворца в Гатчине в столицу по просьбе Родзянко, который, видя, как разворачиваются события, и не получив ответа на настоятельные телеграммы Николаю II и обращения к главнокомандующим фронтами, предпринял последнюю попытку сохранить монархию – возглавив группу членов Временного комитета Государственной думы на переговорах с великим князем Михаилом. Родзянко предложил ему взять на себя диктаторские полномочия в Петрограде на то время, пока Николай II не вернётся из Ставки, немедленно отправить в отставку существующее правительство и потребовать по телеграфу от Николая II манифеста об «ответственном министерстве».
Переговоры в Мариинском дворце длились долго – великий князь заявлял, что у него отсутствуют полномочия на подобные действия. В ходе последовавшей по просьбе великого князя Михаила встречи с председателем Совета министров кн. Н. Д. Голицыным последний заявил, что сам он уже подал прошение об отставке, но пока она не принята, он не вправе передать кому-либо принадлежащую ему власть. Несмотря на уговоры Родзянко и сопровождавших его думцев, великий князь отказался что-либо предпринимать, не заручившись согласием царствующего брата.
Разговаривая с генералом Алексеевым, Михаил попросил передать императору его твёрдое убеждение о необходимости немедленной смены правительства и назначения новым главой правительства князя Львова. Узнав, что Николай II намерен покинуть Ставку, великий князь заметил, что отъезд желательно было бы отложить на несколько дней.
Генерал Алексеев доложил о звонке императору, но тот ответил, что ввиду чрезвычайных обстоятельств отменить свой отъезд не может, а вопрос о смене правительства придётся отложить до прибытия в Царское Село. Потом пришла телеграмма от самого князя Голицына, который просил Николая II немедленно распустить кабинет и назначить «лицо, пользующееся народным доверием», поручив ему сформировать новое правительство.
Алексеев вновь попытался добиться от императора какой-либо реакции по этому поводу, но единственным результатом всех его усилий стала телеграмма Николая II министрам, в которой тот приказывал им оставаться на своих постах и сообщал об отправке в столицу генерала Иванова с войсками.
К этому времени в Петрограде члены Совета министров, не дождавшись ответа монарха, разошлись по домам, после чего правительство фактически прекратило своё существование. На следующий день министры были арестованы Временным комитетом Государственной думы.
По словам историка К. М. Александрова, в тот день у Алексеева напряжённая работа спровоцировала очередной приступ болезни, температура поднялась до 40°, но, узнав, что Николай II после разговора по прямому проводу с императрицей принял решение покинуть Ставку и вернуться к семье в Царское Село, больной генерал после полуночи поспешил на станцию, где буквально умолял императора не покидать Ставку и войска.
Подполковник Б. Н. Сергеевский, в то время возглавлявший службу связи в Ставке, в своих воспоминаниях несколько иначе воспроизводил происходившее в Могилёве. По его словам, когда после полуночи последовало распоряжение о подаче литерных поездов для отъезда императора, Алексеев пошёл во дворец, где уговаривал императора не уезжать. После разговора он вернулся к себе успокоенным, сказав коротко: «Удалось уговорить!» Однако через полчаса после разговора с Алексеевым Николай II всё же приказал подать автомобиль и, уже садясь в него, приказал: «Скажите Алексееву, что я всё-таки уехал». Отъезд был крайне поспешным».
28 февраля (13 марта) 1917 года
Утром в Таврический дворец приехал министр внутренних дел Протопопов. Он сразу же был взят под арест. Позже по решению «Временного комитета» были арестованы другие министры.
Днем вооружённые рабочие и солдаты захватили Петропавловскую крепость, получив в своё распоряжение всю её артиллерию. Начальник Петроградского военного округа генерал-лейтенант Хабалов отвел остатки верных ему войск в Зимний дворец, но и он вскоре также был захвачен восставшими.
Николай II, ночью выехавший из Могилёва в Царское Село, в Орше получил телеграмму «Временного комитета» Госдумы. В ней сообщалось о критическом положении в столице и предлагалось решительно изменить внутреннюю политику и утвердить состав нового кабинета министров.
Также «Временный комитет» Думы разослал по всей стране сообщение, что берёт под свой контроль железнодорожную сеть Российской империи. Генерал-адъютант М. В. Алексеев, назначенный 18 февраля (3 марта) начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 26 февраля (11 марта), видимо, – Верховным главнокомандующим (в открытой печати информации об этом назначении нет, однако некоторые источники называют его Верховным главнокомандующим, возможно, ошибочно? – Авт.), и также собиравшийся взять железнодорожную сеть под свой контроль, отказался от этой идеи, и направил сообщение генералу Н. И. Иванову, что ситуация в Петрограде контролируется «Временным комитетом».
Генерал Иванов решил до полного прояснения ситуации не вводить войска в город. Впрочем, и возможности такой у него уже не было.
1 (14) марта 1917 года
В районе Малой Вишеры Николай II получил сообщение, что ближайшие станции на пути к Царскому Селу находятся в руках бунтующих, приказал развернуть «царский поезд» и отправиться в Псков, где находился штаб Северного фронта, которым командовал генерал от инфантерии Н. В. Рузский. (Инфантерия – название пехоты в некоторых странах, в том числе и в Российской империи).
Новые власти несколько раз пытались заблокировать «царский поезд», чтобы не допустить воссоединения Государя Императора с армией, но Николаю II удалось добраться до Пскова (что свидетельствует о немалых возможностях сопровождавших его частей охраны). Там он получил телеграмму от генерала Алексеева, с сообщением о том, что беспорядки перекинулись на Москву, и призывом избежать силового решения, в кратчайшие сроки назначить главой правительства лицо, которому бы верила Россия, и поручить ему сформировать кабинет министров.
Аналогичные предложения в личной беседе высказал генерал Рузский.
Николай II, не желая становиться конституционным монархом, отказался учреждать правительство, ответственное перед Государственной Думой. По словам членов его свиты, он считал, что несёт ответственность за Россию, и не хотел отвечать за решения правительства, если оно будет подконтрольного не ему, а Думе.
Ближе к концу дня Николай II получил ещё одну телеграмму от генерала Алексеева, с проектом манифеста об учреждении нового правительства. Понимая, что армии его не поддержит, он направил генералу Иванову телеграмму с распоряжением остановить продвижение войск к Петрограду.
Генерал Иванов к тому времени уже и не имел возможности добраться до Петрограда, хотя сам об этом, возможно, пока и не знал. К 18 часам он с передовым отрядом, состоявшим из первого эшелона Георгиевского батальона и роты Собственного Его Императорского Величества полка, общим числом 800 солдат, прибыл на станцию Вырица, оставил там войска и к 21 часу добрался до Царского Села, где узнал, что часть выделенных ему войск растянулись в эшелонах между Двинском, Полоцком и Лугой, а часть разоружена в Луге группой революционных офицеров и отправлена обратно в Псков.