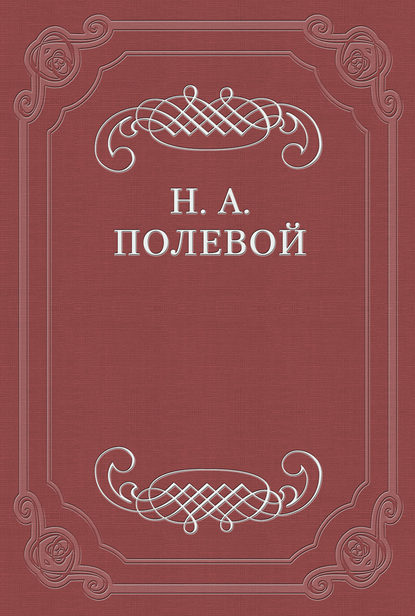По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клятва при гробе Господнем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Та, которая говорила с нею, задумалась. Другие между тем шумно разговаривали с кормилицею, смеялись, спорили. Задумчивая гостья оборотилась к своей подруге и говорила ей тихо: «Душа моя Анфиса! ты на все так-то горько смотришь, как будто тебя и радостью-то обошли на белом свете…»
– Да, – сказала Анфиса, – мне кажется, что я незваная гостья на пиру жизни.
«Ты, милый друг, все сокрушаешься, кажется мне, о потере твоей хорошенькой малюточки, – сказала ей толстая боярыня, сидевшая с другой стороны, вслушавшись в ее речи, – полно тебе: что Бог дал, то взял… Возложи печаль на него!»
– Ах, матушка! – сказала кормилица-старуха, подойдя к печальной гостье и вмешавшись в разговор, – гневишь ты Бога, если о дочке своей скорбишь, да жалеешь!
«Перестань, бабушка! Мне кажется, я тогда только и спокойна, когда об ней подумаю, да помолюсь за нее, или за упокой души ее подам в церковь!»
– О, худо ты делаешь, грешишь ты тяжко. Знаешь ли, что ты причиною, может быть, ее непокоя? Иное дело за помин грешного человека подавать – ты облегчаешь его душу, которая не может от земли оторваться. А младенческая душка, чистая, прямо к Богу идет! Ведь ее на земле и удерживала только любовь твоя; теперь, пока ты горюешь о ней, не расстаться ей с землею и в царстие Божие не войти. А ты благослови ее, отпусти с молитвою, да и забудь о ней до радостной встречи на небесах!
Тут пришла в терем другая старуха и начала что-то шептать на ухо боярыне Старковой. Весть казалась любопытною. Все обратились к ней с вопросами.
– А вот видите, дорогие мои гостьи, хотела я вас угостить всем, чем только могу, и велела сказать одному премудреному старику, чтобы он сегодня пришел к нам.
«Старику? Какому? Зачем?»
– Зовут его Иван Гудочник. Был он у меня однажды – согрешила я, грешная – поворожиться у него захотелось…
«Ах, ах! Он колдун, колдун!» – вскричали гостьи.
– Колдун, правда, а уж этакого забавника я и не слыхивала! Чего-то он мне не рассказал – Господи, твоя воля! Говорят, будто он и к Великой княгине ходит часто. – Это было сказано тихо, а потом боярыня продолжала громко. – О чем ни спроси: и былое, и будущее, все тебе порасскажет, как будто пять пальцев пересчитает! А как начнет от Писания, так, правое слово, два дня слушала бы его…
«Приведите его, позовите скорее!» – вскричали все гостьи.
Боярыня дала знак. Через несколько минут, при глубоком молчании, явился старик – Иван Гудочник, Иван Паломник, литовский колдун – как хотите называйте его – и с веселым лицом раскланялся низко хозяйке и ее гостьям.
– Что это давно ты не был у нас, дедушка? – сказала хозяйка. Гостьи с любопытством рассматривали пришельца.
«Куда, боярыня, ведь не успеешь, право – и туда и сюда – совсем замыкался!»
– Поднесите-ка, девки! старику, добрую чарочку.
«Благодарствую, боярыня! После выпью, за твое здоровье!»
– Где же ты сегодня был? Где ты погулял сегодня, дедушка?
«Дело масленичное, боярыня. Вот, знаешь – и поворожишь, и споешь, и спляшешь! Хм! ведь нашему брату все рука!»
Вопросы посыпались тогда со всех сторон. Откровенный, добрый вид старика ободрил всех. Стали просить его сыграть что-нибудь. Старик вынул свой гудок, настроил его, запел, заиграл, пошел плясать, важно, легко, бодро. Смех, хохот, шутки заняли собрание. Пение старика было самое разнообразное, искусное. Песни, с разными тарабарскими припевами, как-то: Шилды будылды, начики чикалды, таралды баралды, бух, бух, бух, – песни литовские, казацкие, застольные новгородские, присказки, скороговорки старика и прибаутки заставляли невольно хохотать. Гостьи, боярыни сами пели и плясали, когда старик подыгрывал и подпевал им.
– Ну, признаться, – сказала наконец одна гостья, – давно слыхала я о тебе, дедушка, но все не думала, чтобы ты был такой сердечный человек! Я все тебя прибаивалась. Ведь неспроста говорят, да и сам ты конечно сознаешься, что немножко и с лукавым ты водишься?
«Нет, пригожая княгиня, я не вожусь с ним, а держу его в руках – таки нечего таить – довольно крепко!»
– Ах! – закричали все, как будто уже видели перед собою духов тьмы, запрыгавших по слову старика.
Гудочник перекрестился. «Наше место свято! – сказал он, – чего же вы боитесь? Вот то-то, боярыни, и правда, что волос долог, да разум короток. Ведь колдовство колдовству разница: есть злые колдуны, которые продали себя Искусителю – ведьмы, что в трубу влезают, на помеле летают, пляшут в Киеве на Лысой горе, сеют решетом воду, обращают ее в град и выбивают хлеб на полях у православных – да мало ли этакой дичи есть! Другие же колдуны, как я, примером сказать, – мы христиане и для того мы и трудимся, чтобы зло ненавистников отвращать. Куда бы вы без нас? Как ты иную болезнь исцелишь, если не поколдовать? А на свадьбах-то? Куда деваешься от злого человека, если нас не будет!»
Сими словами любопытство было возбуждено чрезвычайное. Начали спрашивать старика о разных околдованьях.
– Мало ли их бывает, – отвечал он, поглаживая свою бороду и лукаво усмехаясь. – У иного такой глаз, что как взглянет, так вот сердце у тебя будто горячим железом прожжет – уж и не опомниться! Тут-то колдун и делает с тобою что хочет, и тот, кого он заворожил, будто овечка, идет, куда велят ему.
«Правда!» – шепнула печальная Анфиса своей подруге.
– А вот этак, боярыни, слыхали ль вы, примером молвить, что было с прадедушкою вашего Великого князя, Василия Васильевича, как испортили молодую его на свадьбе?
«Нет, мы хорошо не знаем!» – заговорили все присутствовавшие, стеснясь к Гудочнику, будто дикие козы.
– А вот оно как было: дедушка Великого князя, знаете, был Димитрий, а у Димитрия отец Иван, а у Ивана младший брат Андрей, от которого пошли князья Боровские, братья Марьи Ярославовны, а старший Семен. И после родителя своего, Ивана Даниловича – знаете, что Калитой звали, – сел Семен на княжение и задумал жениться. И послал он по княжну Евпраксию, дочь князя Смоленского. Княжна плакала, не хотела – она уж, видите, любила князя Фоминского, Федора Красного.
«Что это! – вскричала княгиня Авдотья Васильевна. – Надоели: все любят, да любят…»
– А что же ты станешь, княгиня, делать? Ведь уж так сотворено все: солнышко любит землю, земля любит месяц, месяц влюблен в утреннюю звезду, а звезда эта в зарю – вот они один за другим и бегают…
«Рассказывай, рассказывай, дедушка!» – говорили другие гостьи.
– Hy! Слушайте. Только, как люби не люби, Смоленский князь прикрикнул на дочку свою – замерла, бедная, будто сердечушко выскочило у нее из груди… Что же? Ходит, говорит, смотрит глазами, а точно каменная. И как только привели ее к князю Семену, он хочет обнять ее – ан она и побледнеет, хочет поцеловать – она и помертвеет. Князя Семена возьмет ужасть смертная, закричит он: Мертвец, мертвец! – и убежит от молодой княгини своей. Ведь нечего было ему сделать: призывали знахарей, пели молебны, переворачивали матицу, от семи порогов сор не выметали, по три дня стлали постель на семи стрелах – ничто не пособило! Князь Семен вздохнул тяжело – хороша была княжна Евпраксия, – посадил ее в возок, насыпал ей досканец золота и отправил ее к отцу. Выехала она из Москвы и в первый раз вздохнула, как живая; когда доехала до Можайска – усмехнулась; когда приехали в Смоленск – первый человек навстречу ей был князь Фоминский. Он трои сутки ждал ее на дороге, стоял не пивши, не евши, не чувствуя, как шел на него дождь, как расстилалась над ним темная ночь, как восходило на небо ясное солнце, как роса небесная падала на его русые кудри. Только завидела его княжна Евпраксия – слезы покатились у нее из глаз, будто жемчуг, а на щеках вспыхнул румянец – она ожила!
«Ну, ну, что же далее?»
– Ничего. Евпраксия вышла за князя Фоминского и – колдовство разрушилось. Она не была более мертвецом, когда князь Федор обнимал ее, целовал и не мог насмотреться на ее очи ясные, не мог нацеловаться сахарного ее ротика.
«Ахти! какие же чудеса! – сказала одна из гостий, схлопнув руками. – Теперь чуть ли я не понимаю, что сделалось с моею Алексашею…»
– А что сделалось с нею, боярыня, – спросил Гудочник, – разве она не по себе?
«Да уж чего я с ней не делала: и заговорною-то водою, и богоявленскою-то поила, и с четверговою солью из семи квашен тесто сминала, да для нее хлеб пекла».
– А что бы такое, нельзя ли тебе порассказать, что с нею делается, так, авось, делом смекнуть можно.
«Как и рассказать-то не знаю. То она засмеется, то заплачет, то запрыгает, то целый день, как будто окаменелая, просидит в углу, то щеки у нее, словно жар горят, то вдруг бледна, будто полотно… смаялась и я с нею!»
– Который ей год?
«Да уж девятнадцать скоро минет».
– Ну, эту болезнь и легко и нелегко вылечить. Называется она сердечная лихоманка – она сорок первая сестра сорока лихоманкам, дочерям Ирода, как вы, чаю, знаете. Коли поволишь, боярыня, мы с этим сладим.
«А ты думаешь, дедушка, будто у нее сердце по ком-нибудь тоскует? И, нет: она у нас такой еще ребенок и никого, кажется, и видеть-то ей не удавалось. Да я же и старик мой у нее спрашивали: „Скажи нам, милое дитя наше: не полюбился ли тебе кто? Не вещует ли тебе о ком ретивое твое сердце? Готовы мы отдать тебя за него, хоть бы это был человек небогатый и нечиновный. Одна ты у нас, дитя милое, как солнце на небе, как порох в глазе…“ Молчит, либо скажет: нет! да заплачет, и больше слова от нее не добьешься…»
– О, дивны, дивны, речи твои, боярыня, а я уж делом почти смекнул… Такие ли чудеса порасскажу я тебе! Болезнь твоей дочери такова, что с нею ничто в белом свете сравниться не может – ни сребролюбие, ни славолюбие, ни горе великое; не окупишь ты ее ни богатством, ни царством. Золото и самоцветные каменья кажутся при ней хуже грязи, а рубище и сухой хлеб с водою – краше боярского, парчового платья, слаще яств лебединых, и соломенная кровля драгоценнее палат великокняжеских! От нее не убежишь ни в монастырь, ни в пустыню. Бывали примеры, что страдавшие славолюбием и корыстью уходили в обители, пред алтарем повергали богатства и славу мирскую и забывали все в посте и трудах. Но эта болезнь – не было еще примера, чтобы в монастырской келье она прошла и угасла: только замрет она, окаменит душу, а не разлучится она с человеком никогда – до гроба и за гробом сливается со славою того, кто сам себя назвал Любовью… Послушайте, спою вам я, боярыни, повесть…
С радостным восклицанием сели на скамейки, за стол хозяйка и гостьи. Гудочник взял в руки гудок свой, настроил его, стал посредине комнаты, обратился лицом к слушательницам и тихо проговорил:
«Повесть о дивном чуде, бывшем в Цареграде во дни царя греческого Валента[100 - Валент – император Византийский в 364—378 гг.]».
Он сделал несколько переборов на гудке своем, опустил глаза вниз, перестал играть и сказал: