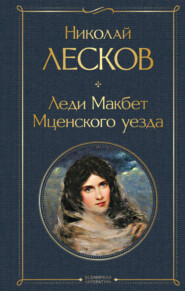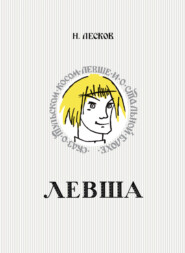По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обойдённые
Автор
Год написания книги
1865
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что вы выдумываете, Дорушка!
– А что ж! Все под богом ходим. Разве уж в меня и влюбиться нельзя?
– Какая вы хорошенькая! – смеясь, воскликнул Долинский.
– Вот то-то и оно! В Варшаве, в царстве женской красоты таковою признана.
– А кстати, Дора, я и забыл вас спросить: как вам понравилась Варшава?
– Очень хороший, типический город.
– А варшавяне?
– Мужчины или женщины?
– Те и другие?
– Одним словом на это отвечать нельзя.
– Ну, можете двумя словами.
– В поляках мне одно только нравится, а в польках одно только не нравится.
– Значит, в мужчинах вы заметили только одну добродетель, а в женщинах только один порок?
– Не то совсем. Мужчины почти точно такие же, как и наши; даже у этих легкости этой ненавистной, пожалуй, как будто, еще и больше—это мне противно; но они вот чем умнее: они за одним другого не забывают.
– Как это, Дорушка?
– А так! У них пению время, а молитве час. Они не требуют, чтоб люди уродами поделались за то, что их матери не в тот, а в другой год родили. У них божие идет богови, а кесарево кесареви. Они и живут, и думают, и любят, и не надоедают своим женщинам одною докучною фразою. Мне, вы знаете, смерть надоели эти наши ораторы! Все чувства боятся! Сердчишек не дал бог, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могут мешать? Будто любовь чему-нибудь мешает.
Даша разгорячилась.
– Шуты святочные! – сказала она с презрением и стала смотреть в окошко вагона.
– Ну, а о женщинах-то польских что же вы, Даша, расскажете?
Даша обернулась с веселой улыбкой.
– Прелесть! Я не знаю, где у вас царь в голове был, Долинский?
– Когда?
– Когда вы черт знает как обрешетились. Долинский ничего не отвечал, и по лицу его пробежала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинского. Она тронула его пальчиком по губам и сказала:
– У-У, бука! Стыдно дуться! Городничий поедет и губы отдавит.
Долинский вздохнул.
– А знаете же, что я одно только невзлюбила в польках? – заговаривала Дора.
– Что? – спросил в свою очередь Долинский, проведя рукою по лбу.
– Отгадайте!
– Бог вас знает, Дорушка! – отвечал Долинский, все еще не вошедший в свою тарелку.
– Ну, отгадайте!
– Да, право, не знаю.
Даша нагнулась, и, пристально посмотрев в глаза Долинского, спросила:
– Вы, кажется, все еще дуетесь?
– Нет, за что же?
– То-то. Видели вы, как поляки лошадей запрягают?
– Видел.
– Ну, как?
– В шоры.
– Нет, вот тут на голову – как это называется?
Даша приложила ладони к своим вискам.
– Наглазники.
– Ну, да, наглазники. Вот эти самые наглазники есть у польских женщин. По дороге они идут хорошо, а в сторону ничего не видят. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.
– Как это, Дорушка?
– А так: или строгость, или уж распущенность, есть своеволие, а между тем свободы честной нет.
– А у наших есть?
– Ну, как же равнять! – отвечала, качая головкой, Дора.
– Способнее, полагаете, наши к честной свободе-то?
– Еще бы! Как их можно и сравнивать в этом отношении! У наших, действительно, смелость; наши женщины—хорошие женщины; они, действительно, хотят быть честно свободными.
– Да много ли их?
– Разумеется, немного пока; а погодите, я уверена, что с нашими женщинами будет жить легче, чем со всякими другими. Ведь неплохо и теперь живется с ними? – добавила она, улыбаясь.