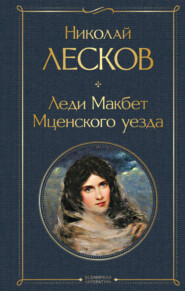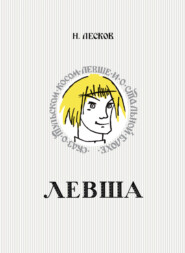По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обойдённые
Автор
Год написания книги
1865
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ничего не думают!
– Как же ничего не думают?
– А так—зачем думать?
– Как зачем думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это… что же это такое вы сами-то наконец говорите?
– Я вам говорю, что они ничего не думают.
– Да что же он-то такое? После этого ведь он же выходит подлец! – Илья Макарович в азарте стукнул кулаком по столу и опять закричал: —Подлец!
– За что вы его так браните? Ну, что от этого Поправится или получшеет?
– Зачем же он сбил девушку? Анна Михайловна улыбнулась.
– Чего вы смеетесь?
– Над вами, Илья Макарыч! Ничего-то вы не разумеете, хоть и в Италии были.
– Чего-с я не разумею? Анна Михайловна промолчала.
– Нет-с, позвольте же, Анна Михайловна, если уж начали говорить, так вы извольте же договаривать: чего это-с я не разумею?
– Да как вы можете утверждать, что он ее с чего-нибудь сбивал? – сказала Анна Михайловна.
Илья Макарович дмухнул носом и, помолчав, спросил:
– Так как же это по-вашему было?
– Дору никто не собьет и… никто Илью Макаровича ни от чего не удержит.
Журавка опять забегал.
– Да… однако ж… позвольте, на что же это она бьет, в чью же-с голову она бьет?! – спросил он, остановившись.
– Любит.
– Да-ну-те-ж бо, бог с вами, Анна Михайловна, что ж будет из такой любви?
– Что из любви бывает – радость, счастье и жизнь.
– Да ведь позвольте… мы ведь с вами старые друзья. Ведь… вы его наконец любите?
– Ну-с; так что же далее? – произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.
– И он вас любил?
– Положим.
– Ничего не понимаю! – крикнул, пожав плечами, Илья Макарович и опять ожесточенно забегал, мотая по временам головою и повторяя с ажитацией, – ничего… ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!
– А как же это вы, однако, поняли, что там что-то есть? – спросила после паузы Анна Михайловна с целью проверить свои соображения чужими.
– Да так, просто. Думаю себе иной раз, сидя за мольбертом: что он там наконец, собака, делает? Знаю, ведь он такой олух царя небесного; даже прекрасного, шельма, не понимает; идет все понурый, на женщину никогда не взглянет, а женщины на него как муха на мед. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лице.
– Да, – уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинского и опять невинно смущаясь.
– Не полюбить-то его почти нельзя!
– Нельзя, – сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.
– То есть именно, и говорю, черт его знает, каналью, ну, нельзя, нельзя.
– Нельзя, – подтвердила Анна Михайловна несколько серьезнее.
– Ну, вот и думаю: чего до греха, свихнет он Дорушку!
– Ничего я не вижу отсюда, а совершенно уверена… Да, Илья Макарыч, о чем это мы с вами толкуем, а?.. разве они не свободные люди?
Художник вскочил и неистово крикнул:
– А уж это нет-с! Это извините-с, бо он, низкий он человек, должен был помнить, что он оставил!
– Эх, Илья Макарыч! А еще вы художник, и „свободный художник“! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смелая! Мало вам адвокатов?
– То есть черт его знает, Анна Михайловна, ведь в самом деле можно с ума сойти! – отвечал художник, заламывая на брюшке свои ручки.
– То-то и есть. Вспомните-ка ее песенку:
То горделива, как свобода, То вдруг покорна, как раба.
– Да, да, да… то есть именно, я вам, Анна Михайловна, скажу, это черт знает что такое!
Долго Анна Михайловна и художник молчали. Одна тихо и неподвижно сидела, а другой все бегал, а то дмухал носом, то что-то вывертывал в воздухе рукою, но, наконец, это его утомило. Илья Макарович остановился перед хозяйкой и тихо спросил:
– Ну, и что ж делать, однако?
– Ничего, – так же тихо ответила ему Анна Михайловна.
Художник походил еще немножко, сделал на одном повороте руками жест недоумения и произнес:
– Прощайте, Анна Михайловна.
– Прощайте. Вы домой прямо?
– Нет, забегу в Палкин, водчонки хвачу.
– Что ж вы не сказали, здесь бы была водчонка, – спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ее то и дело покрывалось пятнами.
– Как же ничего не думают?
– А так—зачем думать?
– Как зачем думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это… что же это такое вы сами-то наконец говорите?
– Я вам говорю, что они ничего не думают.
– Да что же он-то такое? После этого ведь он же выходит подлец! – Илья Макарович в азарте стукнул кулаком по столу и опять закричал: —Подлец!
– За что вы его так браните? Ну, что от этого Поправится или получшеет?
– Зачем же он сбил девушку? Анна Михайловна улыбнулась.
– Чего вы смеетесь?
– Над вами, Илья Макарыч! Ничего-то вы не разумеете, хоть и в Италии были.
– Чего-с я не разумею? Анна Михайловна промолчала.
– Нет-с, позвольте же, Анна Михайловна, если уж начали говорить, так вы извольте же договаривать: чего это-с я не разумею?
– Да как вы можете утверждать, что он ее с чего-нибудь сбивал? – сказала Анна Михайловна.
Илья Макарович дмухнул носом и, помолчав, спросил:
– Так как же это по-вашему было?
– Дору никто не собьет и… никто Илью Макаровича ни от чего не удержит.
Журавка опять забегал.
– Да… однако ж… позвольте, на что же это она бьет, в чью же-с голову она бьет?! – спросил он, остановившись.
– Любит.
– Да-ну-те-ж бо, бог с вами, Анна Михайловна, что ж будет из такой любви?
– Что из любви бывает – радость, счастье и жизнь.
– Да ведь позвольте… мы ведь с вами старые друзья. Ведь… вы его наконец любите?
– Ну-с; так что же далее? – произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.
– И он вас любил?
– Положим.
– Ничего не понимаю! – крикнул, пожав плечами, Илья Макарович и опять ожесточенно забегал, мотая по временам головою и повторяя с ажитацией, – ничего… ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!
– А как же это вы, однако, поняли, что там что-то есть? – спросила после паузы Анна Михайловна с целью проверить свои соображения чужими.
– Да так, просто. Думаю себе иной раз, сидя за мольбертом: что он там наконец, собака, делает? Знаю, ведь он такой олух царя небесного; даже прекрасного, шельма, не понимает; идет все понурый, на женщину никогда не взглянет, а женщины на него как муха на мед. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лице.
– Да, – уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинского и опять невинно смущаясь.
– Не полюбить-то его почти нельзя!
– Нельзя, – сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.
– То есть именно, и говорю, черт его знает, каналью, ну, нельзя, нельзя.
– Нельзя, – подтвердила Анна Михайловна несколько серьезнее.
– Ну, вот и думаю: чего до греха, свихнет он Дорушку!
– Ничего я не вижу отсюда, а совершенно уверена… Да, Илья Макарыч, о чем это мы с вами толкуем, а?.. разве они не свободные люди?
Художник вскочил и неистово крикнул:
– А уж это нет-с! Это извините-с, бо он, низкий он человек, должен был помнить, что он оставил!
– Эх, Илья Макарыч! А еще вы художник, и „свободный художник“! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смелая! Мало вам адвокатов?
– То есть черт его знает, Анна Михайловна, ведь в самом деле можно с ума сойти! – отвечал художник, заламывая на брюшке свои ручки.
– То-то и есть. Вспомните-ка ее песенку:
То горделива, как свобода, То вдруг покорна, как раба.
– Да, да, да… то есть именно, я вам, Анна Михайловна, скажу, это черт знает что такое!
Долго Анна Михайловна и художник молчали. Одна тихо и неподвижно сидела, а другой все бегал, а то дмухал носом, то что-то вывертывал в воздухе рукою, но, наконец, это его утомило. Илья Макарович остановился перед хозяйкой и тихо спросил:
– Ну, и что ж делать, однако?
– Ничего, – так же тихо ответила ему Анна Михайловна.
Художник походил еще немножко, сделал на одном повороте руками жест недоумения и произнес:
– Прощайте, Анна Михайловна.
– Прощайте. Вы домой прямо?
– Нет, забегу в Палкин, водчонки хвачу.
– Что ж вы не сказали, здесь бы была водчонка, – спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ее то и дело покрывалось пятнами.