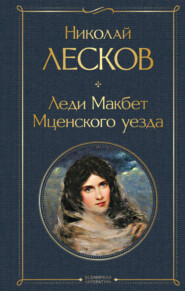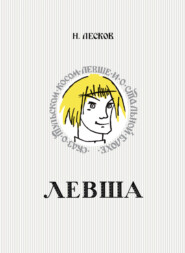По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обойдённые
Автор
Год написания книги
1865
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хорошую написал повесть.
– Ну, и слава богу.
– Денег он пропасть зарабатывает какую!
– Еще раз слава богу.
– А что, он вам пишет?
– Пишет, – медленно проговорила Анна Михайловна. Илья Макарович опять задмухал.
– Водчонки пропустить хотите? – спросила Анна Михайловна, не подымая глаз от книги.
– Нет, черт с ней! Чаишки разве; так от скуки – могу.
Анна Михайловна позвонила. Подали самовар.
– Вы на меня не в претензии? – спросила она Илью Макаровича.
– За что?
– Что я при вас читаю.
– Сделайте милость!
– Скучно без них ужасно, – сказала Анна Михаиловна, обваривая чай.
– И чего они там сидят?
– Для Даши.
Илья Макарович опять задмухал.
– Знаете, что я подозреваю? – сказал он. – Это у него все теперь эти идеи в голове бродят.
– Попали пальцем в небо.
Илья Макарович хотел употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.
– А вот что, Анна Михайловна! – сказал он, пройдясь несколько раз по комнате и снова остановись перед хозяйкой, сидевшей за чайным столом над раскрытою книгою журнала.
– Что, Илья Макарович?
Художник долго смотрел ей в глаза и, наконец, с добродушнейшей улыбкой произнес:
– Махну-ка я, Анна Михайловна, в Италию.
– Это же ради каких благ?
– Еще раз перед старостью небо теплое увидеть. Душу свою обогрею.
– Э, не сочиняйте-ка вздоров! У кого душа тепла, так везде она будет тепла, и под этим небом.
Илья Макарович не умел сказать обиняком то, что он думал.
– Их посмотрю, – сказал он прямо.
– Ну, и что ж будет?
Илья Макарович долго молчал, менялся в лице и моргал глазами.
– Обрезонить надо человека; вот что будет! – наконец вымолвил он с таинственным придыханием.
– Это вы Долинского хотите обрезонивать! Он не мальчик, Илья Макарович. Ему уже не двадцать лет, сам понимает, что делает.
– И ее, – еще тише продолжал художник.
– Ее?
Илья Макарович сделал самую строгую мину и качнул в знак согласия головою.
– Дашу? – переспросила его Анна Михайловна.
– Ну, да.
– Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! – отвечала, улыбнувшись, Анна Михайловна.
– Слово надо сказать; одно слово иногда заставляет человека опомниться, – таинственно произнес художник.
– Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконец, Илья Макарыч?
– Право! С подлецом нечего разбирать прав!
– Пожалуйста, только не горячитесь.
– Нет-с, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипело на сердце, только и всего; и черт с ним после.
Анна Михайловна махнула рукой.
– Да и ей тоже-с. Воля милости ее, а пусть слушает. А уж я наговорю!
– Даше?
– Да-с.
– О, Аркадия священная! Даже не слова человеческие, а если бы гром небесный упал перед нею, так она… и на этот гром, я думаю, не обратила бы внимания. Что тут слова, когда, видите, ей меня не жаль; а ведь она меня любит! Нет, Илья Макарович, когда сердце занялось пламенем, тут уж ничей разум и никакие слова не помогут!
– Так что ж они о себе теперь думают! – грозно крикнул и привскочил с места Журавка.
– Ну, и слава богу.
– Денег он пропасть зарабатывает какую!
– Еще раз слава богу.
– А что, он вам пишет?
– Пишет, – медленно проговорила Анна Михайловна. Илья Макарович опять задмухал.
– Водчонки пропустить хотите? – спросила Анна Михайловна, не подымая глаз от книги.
– Нет, черт с ней! Чаишки разве; так от скуки – могу.
Анна Михайловна позвонила. Подали самовар.
– Вы на меня не в претензии? – спросила она Илью Макаровича.
– За что?
– Что я при вас читаю.
– Сделайте милость!
– Скучно без них ужасно, – сказала Анна Михаиловна, обваривая чай.
– И чего они там сидят?
– Для Даши.
Илья Макарович опять задмухал.
– Знаете, что я подозреваю? – сказал он. – Это у него все теперь эти идеи в голове бродят.
– Попали пальцем в небо.
Илья Макарович хотел употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.
– А вот что, Анна Михайловна! – сказал он, пройдясь несколько раз по комнате и снова остановись перед хозяйкой, сидевшей за чайным столом над раскрытою книгою журнала.
– Что, Илья Макарович?
Художник долго смотрел ей в глаза и, наконец, с добродушнейшей улыбкой произнес:
– Махну-ка я, Анна Михайловна, в Италию.
– Это же ради каких благ?
– Еще раз перед старостью небо теплое увидеть. Душу свою обогрею.
– Э, не сочиняйте-ка вздоров! У кого душа тепла, так везде она будет тепла, и под этим небом.
Илья Макарович не умел сказать обиняком то, что он думал.
– Их посмотрю, – сказал он прямо.
– Ну, и что ж будет?
Илья Макарович долго молчал, менялся в лице и моргал глазами.
– Обрезонить надо человека; вот что будет! – наконец вымолвил он с таинственным придыханием.
– Это вы Долинского хотите обрезонивать! Он не мальчик, Илья Макарович. Ему уже не двадцать лет, сам понимает, что делает.
– И ее, – еще тише продолжал художник.
– Ее?
Илья Макарович сделал самую строгую мину и качнул в знак согласия головою.
– Дашу? – переспросила его Анна Михайловна.
– Ну, да.
– Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! – отвечала, улыбнувшись, Анна Михайловна.
– Слово надо сказать; одно слово иногда заставляет человека опомниться, – таинственно произнес художник.
– Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконец, Илья Макарыч?
– Право! С подлецом нечего разбирать прав!
– Пожалуйста, только не горячитесь.
– Нет-с, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипело на сердце, только и всего; и черт с ним после.
Анна Михайловна махнула рукой.
– Да и ей тоже-с. Воля милости ее, а пусть слушает. А уж я наговорю!
– Даше?
– Да-с.
– О, Аркадия священная! Даже не слова человеческие, а если бы гром небесный упал перед нею, так она… и на этот гром, я думаю, не обратила бы внимания. Что тут слова, когда, видите, ей меня не жаль; а ведь она меня любит! Нет, Илья Макарович, когда сердце занялось пламенем, тут уж ничей разум и никакие слова не помогут!
– Так что ж они о себе теперь думают! – грозно крикнул и привскочил с места Журавка.