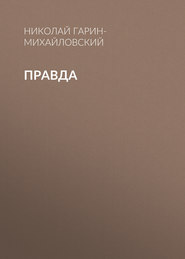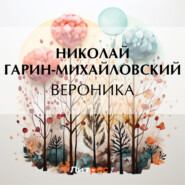По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На селе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Извольте-с… живут… значит, барин, пан по-ихнему, и хохол Грицько, живут… рядом… хорошо-с. Проделал пан дырку в огороде – свинья Грицька, как день, в дыру на огород. Барин сейчас свинью в хлев, посылает за Грицько. Твоя свинья? Моя. Бей. Бьют, бьют Грицька до тех пор, пока штраф не заплатит. Ну там, сколько били – год, десять, надоело Грицько… жаловаться вздумал… Конечно, было-то это дело, когда еще крепостные были… может тысчу лет назад, как говорится, до царя Гороха… Тогда ведь не то, что теперь… что и скажут, так ведь с такой оговоркой, что у другого и охота слушать-то пропадет… Вот так и Грицько пошел там по начальству жаловаться – его же еще больше избили…
– Хо-хо-хо!
– Опять пан, барин значит, бьет Грицько… Опять не в силу ему… преинтересное это дело… Думает себе Грицько, ладно: до самого царя дойду… Хорошо… Взял курицу это, понес на базар, продал, купил лист бумаги – царю прошенье писать, а сам неграмотный… Достал углю, забился в этакое место, чтоб его не увидал кто – пишет. Поставит знак – это значит его изба, другой знак – панский огород… Ей-богу-с…
Встрепенулись гости, слушают, весело смотрят в лицо Ивана Васильевича.
– Свинью назначил… дырку в огороде… все, одним словом, как есть… Написал прошенье, положил в шапку и пошел в город к царю. Ну, конечно, к царю кто его пустит? Сколько там миллионов народу – с каждым одну минуту – дня не хватит, а делов-то со всего государства – тоже время надо… Туда, сюда – нет… Уж каким путем узнал он, однако, что царь пешком гулять ходит. И заберись он как раз в это место. Сидит под забором и ждет. Ждет да думает: а вдруг я забуду, что в прошении написал? надо повторить. Вынул свое прошение из шапки, развернул и не видит, что царь из-за забора глядит… рассказывает сам себе по-своему: оце хата Грицькова, а це панский огород, а це картошка, по-ихнему – бульба, а це свинья… пастюку розинула, аде вже… о пришла, рое… о бежит гайдук… о гонит свинью… другой бежит: «Иди, Грицько, пан кличе»… Не хоче Грицько… о в ногах у гайдука валяется: «Да помилуйте, ваше благородие»… – «Иди, сучий сын»… о ведут до пана… бьют… один на ноги, другой на голову, третий бье… о еей!.. «Давай выкуп»… до яких же пор, ваше царское благородие, терпеть?! Ну рассказал это себе, свернул опять в шапку, сидит. Спрашивает его царь: «А что ты тут, добрый человек, делаешь?» – «Та ничегосеньки, о так сижу соби, та и годи». – «Да у тебя, может, дело есть?» – «Та ниякого дила нет, – о так сижу… Нельзя сидить, чи що? о то пристали к чиловику»… – «Да тебе, может, царя надо, так я хочу указать тебе». Видит хохол, что дело подходящее – начал кланяться. «Ну хорошо, говорит царь, иди вот на то крылечко. Станут тебя спрашивать, ничего не отвечай, – так прямо и придешь к царю. Только ты подожди, чтоб не угадали, что я тебе показал дорогу». Ну подождал и идет… Ну, известно: царь уж сказал, – пропустили. Приходит. Видит, сидит царь, а перед ним все его там слуги… Грицько уж, конечно, и невдомек, что это тот самый царь, что с ним говорил. Может, со страху отца бы родного не узнал. Спрашивает его царь: «А что тебе, добрый человек, надо?» – «Прошенье вашему царскому благородию принес». Приказывает царь принять прошение и разобрать дело. Приняли начальники прошение, сели вкруг стола… Как развернули, так и удержаться не могут от смеха, только носы зажимают себе. Ждет, ждет царь: «Ну, что ж?» Никто не смеет и сказать. Встал, наконец, там посмелее: «так и так, ваше величество, это не прошение, а так, не знаю что и написано… не по-нашему, да и не по-каковскому, и такого человека нет, чтоб и понял тут что-нибудь». Встал царь с трона. «А ну-ка, покажите мне прошение». Подошел, – смотрит. «Нет, говорит, это настоящее как есть прошение и понять тут все можно: вот это хата Грицькова, а это вот огород панской…» Рассказывает все, как есть. А Грицько слушал, слушал, – сложил руки и качает головой: «О, бачишь що царь, сразу поняв, а тыи дурни тильки пукают себе под нос»…
Так и покатились со смеху все, как кончил. Иван Васильевич. Иван Васильевич и сам, рот прикрываючи рукой, заливается осторожным тихим смехом.
– Хитрый народ эти хохлы-с… Ей богу-с… много хитрее наших… У них это есть как будто бы вроде того, что откуда они взялись…
Иван Васильевич весело покачал головой.
– Будто вроде того, что сидела свинья, ямку выдолбила и ушла-с… Летела ворона, видит ямка, снесла в ямку яйцо… Шел черт, видит свинячью ямку, воронье яйцо: «Тощось то буде!» Сел и высидел яйцо: вышел хохол. Глупый, как ворона, хитрый, как черт, и плодовитый, как свинья…
Иван Михайлович таким богатырским смехом закатился, что подавился, закашлялся и едва отдышался. Все смеялись, смотрели на Ивана Васильевича и только головами качали. А Иван Васильевич уже откашлялся и опять почтительно звал гостей закусить, чем бог послал.
– Нет, уж пора, – решительно проговорила Марья Васильевна. – А как же царь решил?
– Дырку велел заделать… На дорожку: посошок… пожалуйте!
Выпили на дорожку, потрепал по плечу Ивана Васильевича Иван Михайлович.
– Молодец!
Иван Васильевич только волосами тряхнул. Оделись, закутались. Идет, качается Иван Михайлович. Довел его до саней Иван Васильевич, усадил. Пыхтит Иван Михайлович:
– Молодец… молодец… насквозь тебя вижу… молодец… всех остригешь… э… если бы все мужики были, как ты…
– Стричь некого было бы…
– Хо-хо-хо! Молодец… Ей-богу, молодец… э… прямо тебе говорю: молодец! Пошел!
Хозяйские лошади дружно подхватили. Качается возок, качается Иван Михайлович, водка разливается по жилам: тепло. Думает управитель об Иване Васильевиче, глядит в далекую луну и думает о том, какой он, Иван Михайлович, хитрый и умный, как он понимает все и насквозь видит всех. Эх! если б тогда пошел бы в военную службу, теперь бы генералом уже был!
Охотник Эммануил Дормидонтович до чужих дел: уехал Иван Михайлович, разобрал всласть по косточкам его. Охота бы послушать, зачем приехал и Петр Захарыч, да речь оборвалась, сидят и гость и хозяин, никто ни слова.
– Ну, идти надо…
Видит Иван Васильевич, что как будто обиделся Эммануил Дормидонтович:
– Посидели бы еще…
– Нет, уж пойду.
– На дорожку: посошок. Пожалуйста… В кои годы раз зайдете – пожалуйста.
– Будет…
Не такой человек Иван Васильевич, чтоб так отпустить: выпил-таки Эммануил Дормидонтович, и сердце отлегло.
Уходя, шепчет Ивану Васильевичу:
– Ты смотри… ухо востро держи с ним. Иван Васильевич только молча кивает головой. – Он мужик хитрый… знаешь…
Еще таинственнее кивает головой Иван Васильевич, запирает дверь и идет назад в избу.
Петр Захарыч уж ходит, ждет его: слава богу, убрались лишние люди.
– Ну, продавай мне хлеб свой.
– Сколько-с?
– Сколько у тебя?
– Тысячи три будет продажного.
– Чать, больше?
– Больше покаместь не могу.
– Ну, три.
– Так.
– Говори цену… не рано…
Однако, добрый час прошел, пока кончили. Выкрутил-таки пятачок на пуд против базарной цены Иван Васильевич: на базар не везти, да пятак…
Кончили, условие написали, отсчитал Петр Захарыч деньги. Оба довольны. Хлеб чтоб до весны в амбаре у Ивана Васильевича и лежал. Смотрит Петр Захарович весело в глаза Ивану Васильевичу.
– Ну, чать, думаешь, – вот дурака нашел… цену какую дал Петр Захарович… с ума сошел? А? ну, теперь, так и быть открою… Открыть, что ль?
– Милость будет…
– Для науки разве… Умен-то ты умен, ну, а науку все-таки не всю прошел…
Объясняет Петр Захарыч Ивану Васильевичу свою хитрую политику с земством. Слушает Иван Васильевич да кивает головой.
– Понял? Попытай-ка везти теперь из города?! А тут хлеб уж готовый, во что встанет извоз, то и мое… Деться некуда… Опять не кормить их – перемрут все… Помаются, а пойдут на запашку… Так-то, голова.
– Совершенно верно.
Проводил Иван Васильевич гостя, запирает дверь, усмехается: «На запашку не допустим, – на твои же деньги три оборота сделаем, а там опять мне же поклонишься, чтоб только развязку тебе сделать».
Потянулась беднота из деревни. Жить не у чего стало, побросали избы: так и стоят заколоченные окна да двери.
– Хо-хо-хо!
– Опять пан, барин значит, бьет Грицько… Опять не в силу ему… преинтересное это дело… Думает себе Грицько, ладно: до самого царя дойду… Хорошо… Взял курицу это, понес на базар, продал, купил лист бумаги – царю прошенье писать, а сам неграмотный… Достал углю, забился в этакое место, чтоб его не увидал кто – пишет. Поставит знак – это значит его изба, другой знак – панский огород… Ей-богу-с…
Встрепенулись гости, слушают, весело смотрят в лицо Ивана Васильевича.
– Свинью назначил… дырку в огороде… все, одним словом, как есть… Написал прошенье, положил в шапку и пошел в город к царю. Ну, конечно, к царю кто его пустит? Сколько там миллионов народу – с каждым одну минуту – дня не хватит, а делов-то со всего государства – тоже время надо… Туда, сюда – нет… Уж каким путем узнал он, однако, что царь пешком гулять ходит. И заберись он как раз в это место. Сидит под забором и ждет. Ждет да думает: а вдруг я забуду, что в прошении написал? надо повторить. Вынул свое прошение из шапки, развернул и не видит, что царь из-за забора глядит… рассказывает сам себе по-своему: оце хата Грицькова, а це панский огород, а це картошка, по-ихнему – бульба, а це свинья… пастюку розинула, аде вже… о пришла, рое… о бежит гайдук… о гонит свинью… другой бежит: «Иди, Грицько, пан кличе»… Не хоче Грицько… о в ногах у гайдука валяется: «Да помилуйте, ваше благородие»… – «Иди, сучий сын»… о ведут до пана… бьют… один на ноги, другой на голову, третий бье… о еей!.. «Давай выкуп»… до яких же пор, ваше царское благородие, терпеть?! Ну рассказал это себе, свернул опять в шапку, сидит. Спрашивает его царь: «А что ты тут, добрый человек, делаешь?» – «Та ничегосеньки, о так сижу соби, та и годи». – «Да у тебя, может, дело есть?» – «Та ниякого дила нет, – о так сижу… Нельзя сидить, чи що? о то пристали к чиловику»… – «Да тебе, может, царя надо, так я хочу указать тебе». Видит хохол, что дело подходящее – начал кланяться. «Ну хорошо, говорит царь, иди вот на то крылечко. Станут тебя спрашивать, ничего не отвечай, – так прямо и придешь к царю. Только ты подожди, чтоб не угадали, что я тебе показал дорогу». Ну подождал и идет… Ну, известно: царь уж сказал, – пропустили. Приходит. Видит, сидит царь, а перед ним все его там слуги… Грицько уж, конечно, и невдомек, что это тот самый царь, что с ним говорил. Может, со страху отца бы родного не узнал. Спрашивает его царь: «А что тебе, добрый человек, надо?» – «Прошенье вашему царскому благородию принес». Приказывает царь принять прошение и разобрать дело. Приняли начальники прошение, сели вкруг стола… Как развернули, так и удержаться не могут от смеха, только носы зажимают себе. Ждет, ждет царь: «Ну, что ж?» Никто не смеет и сказать. Встал, наконец, там посмелее: «так и так, ваше величество, это не прошение, а так, не знаю что и написано… не по-нашему, да и не по-каковскому, и такого человека нет, чтоб и понял тут что-нибудь». Встал царь с трона. «А ну-ка, покажите мне прошение». Подошел, – смотрит. «Нет, говорит, это настоящее как есть прошение и понять тут все можно: вот это хата Грицькова, а это вот огород панской…» Рассказывает все, как есть. А Грицько слушал, слушал, – сложил руки и качает головой: «О, бачишь що царь, сразу поняв, а тыи дурни тильки пукают себе под нос»…
Так и покатились со смеху все, как кончил. Иван Васильевич. Иван Васильевич и сам, рот прикрываючи рукой, заливается осторожным тихим смехом.
– Хитрый народ эти хохлы-с… Ей богу-с… много хитрее наших… У них это есть как будто бы вроде того, что откуда они взялись…
Иван Васильевич весело покачал головой.
– Будто вроде того, что сидела свинья, ямку выдолбила и ушла-с… Летела ворона, видит ямка, снесла в ямку яйцо… Шел черт, видит свинячью ямку, воронье яйцо: «Тощось то буде!» Сел и высидел яйцо: вышел хохол. Глупый, как ворона, хитрый, как черт, и плодовитый, как свинья…
Иван Михайлович таким богатырским смехом закатился, что подавился, закашлялся и едва отдышался. Все смеялись, смотрели на Ивана Васильевича и только головами качали. А Иван Васильевич уже откашлялся и опять почтительно звал гостей закусить, чем бог послал.
– Нет, уж пора, – решительно проговорила Марья Васильевна. – А как же царь решил?
– Дырку велел заделать… На дорожку: посошок… пожалуйте!
Выпили на дорожку, потрепал по плечу Ивана Васильевича Иван Михайлович.
– Молодец!
Иван Васильевич только волосами тряхнул. Оделись, закутались. Идет, качается Иван Михайлович. Довел его до саней Иван Васильевич, усадил. Пыхтит Иван Михайлович:
– Молодец… молодец… насквозь тебя вижу… молодец… всех остригешь… э… если бы все мужики были, как ты…
– Стричь некого было бы…
– Хо-хо-хо! Молодец… Ей-богу, молодец… э… прямо тебе говорю: молодец! Пошел!
Хозяйские лошади дружно подхватили. Качается возок, качается Иван Михайлович, водка разливается по жилам: тепло. Думает управитель об Иване Васильевиче, глядит в далекую луну и думает о том, какой он, Иван Михайлович, хитрый и умный, как он понимает все и насквозь видит всех. Эх! если б тогда пошел бы в военную службу, теперь бы генералом уже был!
Охотник Эммануил Дормидонтович до чужих дел: уехал Иван Михайлович, разобрал всласть по косточкам его. Охота бы послушать, зачем приехал и Петр Захарыч, да речь оборвалась, сидят и гость и хозяин, никто ни слова.
– Ну, идти надо…
Видит Иван Васильевич, что как будто обиделся Эммануил Дормидонтович:
– Посидели бы еще…
– Нет, уж пойду.
– На дорожку: посошок. Пожалуйста… В кои годы раз зайдете – пожалуйста.
– Будет…
Не такой человек Иван Васильевич, чтоб так отпустить: выпил-таки Эммануил Дормидонтович, и сердце отлегло.
Уходя, шепчет Ивану Васильевичу:
– Ты смотри… ухо востро держи с ним. Иван Васильевич только молча кивает головой. – Он мужик хитрый… знаешь…
Еще таинственнее кивает головой Иван Васильевич, запирает дверь и идет назад в избу.
Петр Захарыч уж ходит, ждет его: слава богу, убрались лишние люди.
– Ну, продавай мне хлеб свой.
– Сколько-с?
– Сколько у тебя?
– Тысячи три будет продажного.
– Чать, больше?
– Больше покаместь не могу.
– Ну, три.
– Так.
– Говори цену… не рано…
Однако, добрый час прошел, пока кончили. Выкрутил-таки пятачок на пуд против базарной цены Иван Васильевич: на базар не везти, да пятак…
Кончили, условие написали, отсчитал Петр Захарыч деньги. Оба довольны. Хлеб чтоб до весны в амбаре у Ивана Васильевича и лежал. Смотрит Петр Захарович весело в глаза Ивану Васильевичу.
– Ну, чать, думаешь, – вот дурака нашел… цену какую дал Петр Захарович… с ума сошел? А? ну, теперь, так и быть открою… Открыть, что ль?
– Милость будет…
– Для науки разве… Умен-то ты умен, ну, а науку все-таки не всю прошел…
Объясняет Петр Захарыч Ивану Васильевичу свою хитрую политику с земством. Слушает Иван Васильевич да кивает головой.
– Понял? Попытай-ка везти теперь из города?! А тут хлеб уж готовый, во что встанет извоз, то и мое… Деться некуда… Опять не кормить их – перемрут все… Помаются, а пойдут на запашку… Так-то, голова.
– Совершенно верно.
Проводил Иван Васильевич гостя, запирает дверь, усмехается: «На запашку не допустим, – на твои же деньги три оборота сделаем, а там опять мне же поклонишься, чтоб только развязку тебе сделать».
Потянулась беднота из деревни. Жить не у чего стало, побросали избы: так и стоят заколоченные окна да двери.