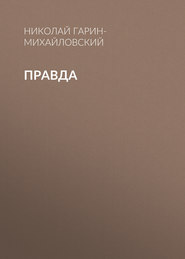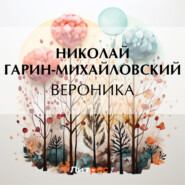По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На селе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слышь, пускать не велено…
– Это что ж?!. Ну так пропью всё: равнять так равнять…
Не пришелся по нраву начальнику Михайло Филиппыч: «Уйди да уйди». Пристали люди: «Иди»… неужели спорить станешь? Подумал, подумал Михаил Филиппыч и сдал должность.
Без дела, без сына, как на пустом месте остался Михайло. Читает святое писание да в своей и истории Иова ищет себе утешения… Но нет уж того, как бывало прежде, чтобы «пела» душа. Червяк какой-то словно сосет. Не то обида, не то жаль богатства, не то скучно просто. Оторвал бы этого червяка, вздохнул бы опять легко – опять «запела бы душа».
Собрался как-то сход по зиме нанимать на лето пастуха: сорок три головы весь табун и мелкого и крупного из трехсот прежних… В складчину будет пахать народ, как, бог даст, весна придет. Так ведь чего ж поделаешь?
И народу-то поубавилось: кто помер, кто ушел. Дедушки Алексея нет. Иерихонская труба – Павел Кочегар – навсегда стихла. Ивана нет, дядя Григорий помер, Куприян, да мало ли.
Идет Михайло со схода – скучно…
С охотой бы поменялся с теми, кто сдал уже свою жизнь назад тому, от кого принял, но не пришел час еще: твори волю пославшего… Эх, и рад бы, да как?!
Пришел домой – пусто на душе, прилег и заснул.
Спит и снится ему, что сидит он на своем пчельнике и выкуривает пчел. И вдруг голос ему откуда-то:
«Михайло, оставь пчел земных и иди потрудись над небесными».
Поднял Михайло голову и видит, что перед ним высокий, высокий до самого неба столб стоит, а по столбу все ручки да ручки.
Оставил Михайло пчельник и полез по столбу. И так ему легко и весело, точно и тела на нем нет.
Вот уж он до самого неба добрался: еще бы только одну ручку.
«Как же теперь? – думает Михайло, – ведь не взлезешь без нее».
И слышит опять голос:
«Ручка-то на прилавке осталась».
«Ахти и правда, – подумал Михайло, – бежать за ней».
Но только поглядел было вниз Михайло, как так и обмер. Пропали и ручки и столб, и только и осталась та, за которую держался. Смотрит, и небо уходить кверху стало от него, и остался он над бездной и чует, что слабнет, вот-вот онемеет рука, и полетит он без памяти вниз. Страх на него напал: как крикнет Михайло…
Проснулся и глядит: в избе он своей, а сон, как живой, так огнем разливается по жилам.
Задумался Михайло: вещий сон учуял. Куда ни пойдет, все в голове: зовет господь потрудиться на свое дело. Все переходяще, все тленно, и близкие сердцу уйдут, нет в земном ни в чем опоры – нет правды. Ходит Михайло темный, думает… Надумался на богомолье сходить.
Три месяца ходил. Пришел домой к самой весне по последнему пути. Уходил пасмурный, с тяжелым сердцем, а назад идет веселый, смотрит на мир божий и радуется. А солнышко уж совсем по-летнему греет. Смотрит Михайло в мягкое синее небо и кажется ему, что земля давно в зелени, но снежок хоть осел, а еще лежит, только-только тронулись овражки да местами на пригорках стаяло, просохло и даже пыль вертит. А ветерок точно гладит по лицу, – мягкий, нежный, – тепло.
Идет Михайло и вспоминает отшельника, к которому по пути заходил. Говорили, что не след было идти к нему, что сноха у него пьяница, что всё, что люди ни принесут ему, она все в кабак тащит, но Михайло не послушал и все-таки пошел. Уж у самой избушки раздумье его взяло: и сам не знает, идти или назад вернуться. Оглянулся Михайло – пустырь, никого не видать, дело к ночи, там в прозрачной тьме только-только горит полоска в влажном небе. Подумал, подумал и стукнул в дверь. Ждет, ждет – нет ответа. Опять стукнул, опять ждет, опять нет никого.
«Дома, видно, нет», – подумал Михайло и поворотил уж было от избы, ан глядит, старушонка-то ветхая навстречь ему – откуда взялась, не знает Михайло.
И говорит:
– А ты, дядя, с молитвой.
Спохватился Михайло, что маху дал, вернулся и сотворил молитву.
– Господи, Иисусе Христе, сыне божий, спаси и помилуй!
Слышит изнутри голос: «Аминь!» Щелкнула задвижка – растворилась дверь. Перекрестился Михайло, изогнулся и, шурша своим новеньким полушубком, вошел сперва в маленькие сени, а затем и в избу. Избенка маленькая, покосившаяся, точно в землю вросла, воздух тяжелый. Не требовательный человек Михайло, а и ему невмоготу стало. Тоска взяла за сердце. «Э, какой дух-то!» – подумал он. И как только он это подумал, отшельник точно услышал его думу, стал у печки, оперся рукой о голову и говорит:
– Горе мне, грешнику! Сноха у меня пьяница, что добрые люди принесут, все в кабак снесет, дух у меня в избе смрадный, горе мне!
Как обухом ударили Михайлу слова отшельника. Стоит он ни жив ни мертв, потупился и смотрит в землю. Тихо, тихо в избе. И слышит Михайло, что плачет отшельник… Точно руками кто сжал сердце Михайлы, точно туман нашел на него. Долго ль это было, как, когда пришел он в себя, отчего среди этого смрада вдруг просветлела и снова запела душа его, – ничего он этого не помнит и не знает. Очнулся он и видит: стоит он на коленях и плачет, а рядом с ним плачет отшельник.
Три дня прогостил у него Михайло, потрудился с ним на посте и молитве и так привязался к отшельнику душой, что решил к осени придти к нему погостить целую зиму.
Идет теперь дорогой Михайло, несет дорогой подарочек отшельника – вериги, вспоминает и радуется.
Опять поет его душа. И чует он, что дороже жизни ему это пенье.
Глядит он в теплое синее небо, глядит в белое облачко в нем и сам не знает: облачко ли то белое плывет, ангел ли божий смотрит на него сверху и тоже радуется.
– Это что ж?!. Ну так пропью всё: равнять так равнять…
Не пришелся по нраву начальнику Михайло Филиппыч: «Уйди да уйди». Пристали люди: «Иди»… неужели спорить станешь? Подумал, подумал Михаил Филиппыч и сдал должность.
Без дела, без сына, как на пустом месте остался Михайло. Читает святое писание да в своей и истории Иова ищет себе утешения… Но нет уж того, как бывало прежде, чтобы «пела» душа. Червяк какой-то словно сосет. Не то обида, не то жаль богатства, не то скучно просто. Оторвал бы этого червяка, вздохнул бы опять легко – опять «запела бы душа».
Собрался как-то сход по зиме нанимать на лето пастуха: сорок три головы весь табун и мелкого и крупного из трехсот прежних… В складчину будет пахать народ, как, бог даст, весна придет. Так ведь чего ж поделаешь?
И народу-то поубавилось: кто помер, кто ушел. Дедушки Алексея нет. Иерихонская труба – Павел Кочегар – навсегда стихла. Ивана нет, дядя Григорий помер, Куприян, да мало ли.
Идет Михайло со схода – скучно…
С охотой бы поменялся с теми, кто сдал уже свою жизнь назад тому, от кого принял, но не пришел час еще: твори волю пославшего… Эх, и рад бы, да как?!
Пришел домой – пусто на душе, прилег и заснул.
Спит и снится ему, что сидит он на своем пчельнике и выкуривает пчел. И вдруг голос ему откуда-то:
«Михайло, оставь пчел земных и иди потрудись над небесными».
Поднял Михайло голову и видит, что перед ним высокий, высокий до самого неба столб стоит, а по столбу все ручки да ручки.
Оставил Михайло пчельник и полез по столбу. И так ему легко и весело, точно и тела на нем нет.
Вот уж он до самого неба добрался: еще бы только одну ручку.
«Как же теперь? – думает Михайло, – ведь не взлезешь без нее».
И слышит опять голос:
«Ручка-то на прилавке осталась».
«Ахти и правда, – подумал Михайло, – бежать за ней».
Но только поглядел было вниз Михайло, как так и обмер. Пропали и ручки и столб, и только и осталась та, за которую держался. Смотрит, и небо уходить кверху стало от него, и остался он над бездной и чует, что слабнет, вот-вот онемеет рука, и полетит он без памяти вниз. Страх на него напал: как крикнет Михайло…
Проснулся и глядит: в избе он своей, а сон, как живой, так огнем разливается по жилам.
Задумался Михайло: вещий сон учуял. Куда ни пойдет, все в голове: зовет господь потрудиться на свое дело. Все переходяще, все тленно, и близкие сердцу уйдут, нет в земном ни в чем опоры – нет правды. Ходит Михайло темный, думает… Надумался на богомолье сходить.
Три месяца ходил. Пришел домой к самой весне по последнему пути. Уходил пасмурный, с тяжелым сердцем, а назад идет веселый, смотрит на мир божий и радуется. А солнышко уж совсем по-летнему греет. Смотрит Михайло в мягкое синее небо и кажется ему, что земля давно в зелени, но снежок хоть осел, а еще лежит, только-только тронулись овражки да местами на пригорках стаяло, просохло и даже пыль вертит. А ветерок точно гладит по лицу, – мягкий, нежный, – тепло.
Идет Михайло и вспоминает отшельника, к которому по пути заходил. Говорили, что не след было идти к нему, что сноха у него пьяница, что всё, что люди ни принесут ему, она все в кабак тащит, но Михайло не послушал и все-таки пошел. Уж у самой избушки раздумье его взяло: и сам не знает, идти или назад вернуться. Оглянулся Михайло – пустырь, никого не видать, дело к ночи, там в прозрачной тьме только-только горит полоска в влажном небе. Подумал, подумал и стукнул в дверь. Ждет, ждет – нет ответа. Опять стукнул, опять ждет, опять нет никого.
«Дома, видно, нет», – подумал Михайло и поворотил уж было от избы, ан глядит, старушонка-то ветхая навстречь ему – откуда взялась, не знает Михайло.
И говорит:
– А ты, дядя, с молитвой.
Спохватился Михайло, что маху дал, вернулся и сотворил молитву.
– Господи, Иисусе Христе, сыне божий, спаси и помилуй!
Слышит изнутри голос: «Аминь!» Щелкнула задвижка – растворилась дверь. Перекрестился Михайло, изогнулся и, шурша своим новеньким полушубком, вошел сперва в маленькие сени, а затем и в избу. Избенка маленькая, покосившаяся, точно в землю вросла, воздух тяжелый. Не требовательный человек Михайло, а и ему невмоготу стало. Тоска взяла за сердце. «Э, какой дух-то!» – подумал он. И как только он это подумал, отшельник точно услышал его думу, стал у печки, оперся рукой о голову и говорит:
– Горе мне, грешнику! Сноха у меня пьяница, что добрые люди принесут, все в кабак снесет, дух у меня в избе смрадный, горе мне!
Как обухом ударили Михайлу слова отшельника. Стоит он ни жив ни мертв, потупился и смотрит в землю. Тихо, тихо в избе. И слышит Михайло, что плачет отшельник… Точно руками кто сжал сердце Михайлы, точно туман нашел на него. Долго ль это было, как, когда пришел он в себя, отчего среди этого смрада вдруг просветлела и снова запела душа его, – ничего он этого не помнит и не знает. Очнулся он и видит: стоит он на коленях и плачет, а рядом с ним плачет отшельник.
Три дня прогостил у него Михайло, потрудился с ним на посте и молитве и так привязался к отшельнику душой, что решил к осени придти к нему погостить целую зиму.
Идет теперь дорогой Михайло, несет дорогой подарочек отшельника – вериги, вспоминает и радуется.
Опять поет его душа. И чует он, что дороже жизни ему это пенье.
Глядит он в теплое синее небо, глядит в белое облачко в нем и сам не знает: облачко ли то белое плывет, ангел ли божий смотрит на него сверху и тоже радуется.