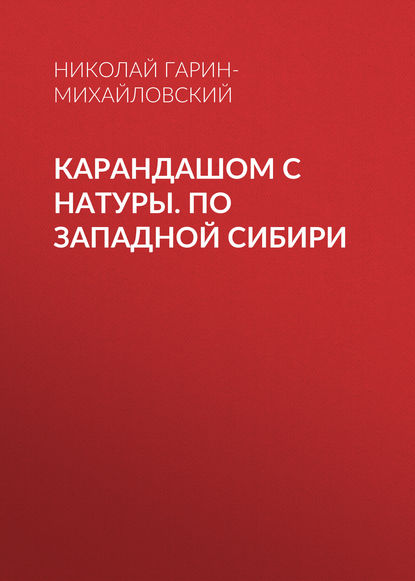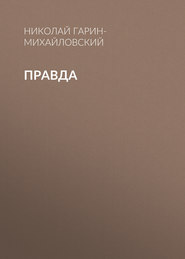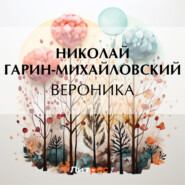По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карандашом с натуры. По Западной Сибири
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Постой… Ладно. Что ж я худого сказал, твое благородие! Только и всего, что старшине, как он свой приговор постановил, так что баня сгорела, ну действительно сказал, что все вы – одна сволочь – и верно!
– Ну, вот тебе и вышло верно.
– Паастой!.. Ну вот, призывают меня после того в правление и без суда и спроса, так и так, пятнадцать розог. Не желаю. «Вали его!» Дай, говорю, месячный срок обжаловать, Дай двухнедельный, дай недельный, дай три дня!
Голос Пахома перешел в какой-то воющий рев.
– Навалилось десять человек народу, что я поделать могу?! Один хватает за руки, другой ноги, третий рубаху рвет…
Пахом Степанович замолчал на мгновение.
– Уперся я, – начал он снова, – в первый раз тихо этак рванул: раз-другой, – ну, сила, можешь видеть, – посыпались кто куда… Опять насели… опять таскали-таскали – брякнули на скамейку ребром, так и сейчас вышибленное. Ну, уж там дальше, как в тумане. Повалили, уселись на само на ребро, били-били, – я уж не помню. Ну, отлили, отошел. Я в ту же минуту прямо в город. Пришел к губернатору и прямо ему так и говорю: «Ваше высокопревосходительство, глядите», да и поднял рубаху; поднял рубаху, а там все тело так и запеклось. Взял его пальчик да и вожу по ребру, а ребро-то: трик-трик. «Это что ж такое?» – говорю. Ну, меня сейчас в госпиталь на излечение. Следствие…
– Ну?
– Ну и ничего: кому надо?
– Да не слушайте вы его, ваше благородие, утомит он вас, а толков никаких ведь не добьетесь… пятнадцать лет вот мотает и себя и мир, – уж его и на высидку присуждали – совсем супротивный человек стал.
– Супротивный? – Пахом плюнул и быстро ушел.
Отойдя, он остановился, как будто рассматривая что-то, а сам слушал.
– Вина не в старшине тут была, а в мировом. Вышел приказ, старшина взял да и выпорол. А мировой-то смекнул, что дело неладно, и водил его все это время, – ну, а теперь действительно ушел, и дело открылось. Так ведь сколько лет же ушло. Да и дело он свое сам же испортил. «Не стану, говорит, подати платить, когда так», Совсем отбился, – до сих пор и не платит. Ну, нынче велено продавать у него сено и дрова.
– И не буду платить! – гаркнул издали Пахом, – по какому такому закону меня калекой сделали? Кто бил, тот и плати.
– Совсем пустой мужичонка. Жил хорошо; все смотал, все бросил, все перевел на кляузу, – ничего не стало; вся изба завалена – все черновиками да прошениями, – сосут с него, конечно, а он всё собирает их. Чуть что и сейчас: «а черновик?», а что такое черновик, и не расскажет, поди. И так уж он иссутяжничался, что чуть что кто, сейчас тянуться. Семена ему тут богатый мужик продал, так ведь что выдумал? «Не всхожи», – баит. И ведь суд затеял на пятьдесят рублей. Мужик-то богатый, взял да и вынес ему пятьдесят рублей. «На вот тебе, говорит, я такой же человек и останусь, а ты все такой же прохвост будешь». Право, так и сказал, так и отрезал. Пустяшный человек, разговоров не стоит. А теперь, прямо сказать, умом тронулся, – хихикнул крестьянин, заглядывая мне в глаза. – В город опять идет: прослышал, князь какой-то едет. Кто едет – он сейчас же торбу на плечи, айда пошел…
– Сволочь! – плюнул Пахом Степанович. – До смерти буду ходить, а правду-матку найду. Из-под земли ее вырою!..
Так и запечатлелась эта громадная, тоскующая, точно в кошмаре каком, фигура с своими черными курчавыми волосами, которые, как змеи, обвились вокруг громадной его головы.
notes
Сноски
1
Оставьте надежду, входящие сюда (итал.).
2
Я говорю о треугольнике, вершина которого Томск, а база – село Кривощеково на реке Оби (где назначен железнодорожный мост через Обь) и село Талы на реке Томи (железнодорожный мост через реку Томь). (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)
3
Башурино – село в двадцати пяти верстах от Томска. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)