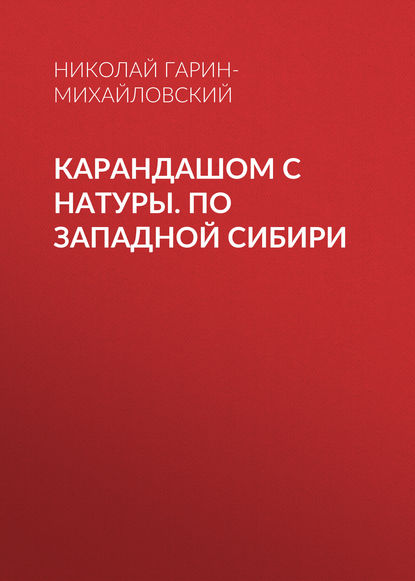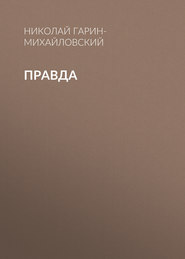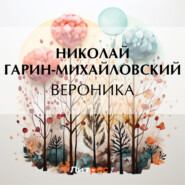По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карандашом с натуры. По Западной Сибири
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какой грех?
– Какой? А зачем в Сибирь ссылают? Вот от этих самых бродяжек и грех.
– А разве они донимают?
– Всякие бывают. Плохо положишь – позаботятся… Да не в том сила: сейчас содержи его, да отвечай, да подвода – замают. Хуже вот всех здешний же; они, к примеру, и не бродяжки, – только паспорта нет, – всё вот и шляется. Придет в Томск и объявится, что без паспорта; ну, его сейчас в тюрьму, одежду арестантскую и назад в Каинск или куда там. Сидит себе на подводе, а солдат пешком должен идти. Он развалится себе, как барин, а ты вези…
– Какой же ему интерес?
– А такой интерес, что арестантскую одежу получит, потому что, как его доставят в Каинск, что ль, – окажется, что он тамошний, – его и выпустят. А закон такой, чтоб выпускать с одежей. Ну, сапоги, одежа восемнадцать рублей стоят, сейчас ему и найдено. В Томске побывал, одежу справили, привезли, да еще и с солдатом, чего ж ему? Посидит – айда назад в Томск. Вот эти и донимают; самый отчаянный народ. А те, что с каторги тянутся, те никого не тронут, потому что опасаются, как бы не схватили; он так и пробирается осторожно до России, ну, там, действительно, ему не опасно.
– Отчего ж там не опасно?
– Да там поймают, первое – не бьют, потому что бьют только того, кого на месте, пока в Сибири еще, значит, поймали. Второе – опасно, как бы не признали, а в России – объявился бродягой, и концы в воду, – на поселение марш, а ему и найдено. Уж его тогда никто тронуть не может, будь он хоть сам каторжный.
– И много их, бродяжек?
– Тьмы кишат. Здесь им у нас, как в саду; первое – жалеют, подают; второе – работа. Так в настоящие работники его брать не приходится, а поденно поработал, получи и марш. Их ведь было порешили совсем прикончить, как у немцев; там ведь их нет: камень на шею и в воду; ну, вы сами знаете, пограмотней моего, а у нас царь воспротивел: пущай, говорит, бегают до времени, – из моей Палестины никуда не уйдут, царь их жалеет. Оно, конечно, – несчастная душа; с каждым может прилучиться. Как говорится – от тюрьмы да от сумы не зарекайся.
Иван замолчал и задумался.
– Со мной вот какой был раз случай. Еду я обратным из Варюхиной. Только выехал на поскотину, – выходит человек из лесу. «Свези меня, говорит, в Яр». Я гляжу: что такое, чего едет человек? ни при нем вроде того что ни вещей, нет ничего. Я и говорю ему: «Как же это вы, господин, так едете в дорогу?» Так чего-то он сказал – не разобрал; я посадил его, да дорогой и пристал к нему: кто он, да кто. Ну, он было туда, сюда и признайся, что убежал из Варюхиной от солдата, пошел будто себе на задний двор, да и лататы. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехали в Яр, остановил я посреди деревни лошадей и крикнул: «Люди православные, ловите его, это арестант, убег из Варюхиной, да ко мне и пристал». Ну, тут его и схватили.
– Тебе не жаль его было?
– А как же он подводил солдата. Ведь солдат за него пошел бы туда же. Никак невозможно! Пропал бы солдат. И бил же его солдат, как привели назад. Ну действительно было отчаялся совсем. Уж тут так выходило: либо тому, либо другому пропадать, – друг дружку будто не жалеют.
Мы выехали на большую дорогу. То и дело тянутся обозы переселенцев.
– Много их?
– Конца света нет. Одни туда, другие назад шляются, угла не сыщут себе. Всё больше свои, сибирские же, из Тобольской больше губернии. А чего шляется? Чтоб повинностей не платить; он ищет место до смерти, а мир плати за него. Непутящий народ, нигде не уживаются.
– Куда же они едут?
– Да так, свет за очи. Всё больше за Бирск к белотурке… и у нас которые садятся, да не живут же, – всё туда норовят: там белотурка родит.
– Ну, а у вас они могут, если захотят, осесть?
– Могут. Общество их не примет, а губернское правление отписывает, чтоб принять, – помимо, значит, схода. Вот в прошлом годе было такое дело. Пришли двое и просятся. Мир говорит: нам и самим тесно, мы вас не примем. Можете по другому закону сесть – садитесь, а от нас вам воли нет. Ну, они действительно отправились в город. Тут бумага из правления: принять таких-то, и не принять, значит, а прямо зачислить без мира, значит нельзя отказывать: иди кто хочет.
– И что ж, поселились?
– Живут.
– Что ж мир?
– Так что же мир? Как разрешили, так и живите с богом; взяли с них повинности, – паши, где хочешь, сей, где хочешь, как, одним словом, всё прочее.
– И не обиделся мир?
– Какая же тут обида, когда закон такой.
Иван замолчал, повернулся к лошадям и погнал.
В Сибири особенная езда: едет, едет, вдруг гикнет, взмахнет кнутом, и помчались лошади во весь дух – верста-две и опять ровненько. Этот марш-марш такая прелесть, какой не передать никакими словами: тройка, как одна, подхватит и мчится так, что дух захватывает, чувствуется сила, для которой нет препятствия. На гору тоже влетают в карьер, какая бы она крутая ни была. Понятно, что для лошадей это зарез, и только вольные кормы да выносливость сибирских лошадей делают то, что с них это сходит, как с гуся вода.
Когда опять поехали ровно, Иван стал вполоборота и ждал, чтоб я снова заговорил с ним.
Иван толковый парень, услужливый; он уже ездил со мной целый месяц и, несмотря ни на какие дебри, ни перед чем не останавливался, – смело лезет, куда угодно.
Его молодое красивое лицо опушено маленькой бородкой. Воротник бумажной рубахи высокий и плотно облегает шею; вся его фигура сильная, красивая, с той грацией молодого тела, которая присуща двадцати – двадцати пяти годам.
Он старший заправила в доме; отец, кроме пасеки, ни во что не вмешивается. Практичность его и деловитость чувствуется и проглядывает во всякой мелочи. К нему все относятся серьезно, то есть с уважением.
– Серьезный парень, умственный мужик, всякое дело понять может.
Жена ему под стать, и, несмотря на ласковые улыбки, чувствуется в ней практичная баба, хорошо познавшая суть жизни.
Я люблю говорить в дороге. Я вспомнил о распространенном здесь поверии о змеях.
– А скажи мне, Иван, змеи залазят в рот человеку?
– Залазят, – ответил Иван и повернулся.
– У вас в деревне залазила к кому?
– У нас нет, а в прочих залазила. Много примеров. В прошлом годе в Пучанове одному залезла. Вынули. Может, приметили мельницу на Сосновке, – вот там невдалече и живет знахарка, которая их вытаскивает наговором ли, как ли, я уж не знаю. Этот, которому залезла, чего-чего не делал, к доктору даже ездил. Доктор говорит: «Может ли это быть, чтоб живу человеку змея могла в горло влезть? Никогда этому поверить не могу». – «Верно, говорит, ваше благородие, действительно залезла». – «Ты сам видел?» – «Никак нет, говорит, я спал на траве, а только сон мне приснился, будто я пиво студеное пил, ну, а уж это завсегда, когда она влазит, такое пригрезится». – «Не могу поверить, говорит, свидетелей представь». Ну действительно сродственники, кои привезли его, удостоверяют, что действительно, значит, верно. «Сами, говорит, видели, как влазила?» – «Ну, действительно сами то есть не видали». – «Так я поэтому не могу», – говорит доктор. Туда-сюда, ну и выискался такой, который видел, значит. Привезли его к доктору, а то и лечить ведь не хочет. «Видел?» – говорит. «Видел, ваше благородие, своими глазами!» – «Как же она влезла?» – «А вот этак, говорит, только хвостиком мотнула», – и показал, значит, пальцем, как мотнула. «Доказывай, говорит, крепко доказывай». – «Так точно, говорит, доказываю». – «Сам видел?» – «Так точно, говорит, видел». – «И под присягой пойдешь?» – «Пойду». Ну, действительно, если, значит, видел, так ему и присяга не страшна. «Ну хорошо, говорит, значит, тому, к которому змея заползла, – должен ты нам теперь расписку дать, что согласен, чтоб мы тебе змею вынули, а мы тебя натомить станем, покрошить, значит».
Ну действительно не согласился он и от лечения отстал и поехал к этой самой знахарке. Знахарка вникла и баит: «Ох, паря, нехорошее дело. Испытать надо». Дала ему порошков таких, чтобы уснул он маленько. «Мне, говорит, допрежь того увидать ее надо. Уж если она есть, не может она, значит, против меня, беспременно должна показать голову»: Ну действительно только он это заснул, чего уж она сделала, вдруг рот у этого человека раскрывается, и показывается она самая. Высунулась и вот этак головой повиливает на все стороны. «Тебя, говорит, нам и надо». Разбудила мужика: «Есть, говорит. Теперь она, говорит, от меня никуда не уйдет, потому должна мне повиноваться. Теперь настояще уж стану лечить».
Истопила это она печку жарко-нажарко, дала ему еще порошка, положила его вплоть к себе, а сама голову, значит, обзанавесила, чтобы не видно змее, значит, было. Вот только он это уснул, сейчас опять рот раскрывается, и вылазит она. Раньше только голову показала, а теперь четверти на полторы вылезла. А сама уж кровяная, красная, как огонь, толстая, действительно, кровью уж упилась. Как она это вылезла, а знахарка ее за шею, да в печку, в самый жар. Тут она и свернулась в кольцо; свернулась и закипела. Закипела, закипела и стала черная да узкая… да вот, как вот этот кнут, этакая стала. Разбудила она тогда мужика: «Вставай, говорит, молись богу – вот твой мучитель», – и кажет ему. Ну, действительно к доктору посылали эту самую змею.
– Что ж доктор?
– Что ж, уж ему деться некуда: змея, так змея и есть.
– А зачем она его не разбудила, как только вынула?
– А нельзя. В то самое время никак невозможно никому, кроме знахарки, видеть ее. Сила в ей такая, значит, что должен тот погибнуть, кто ее увидит, кому ж надо?
– А знахарка не погибает?
– Действительно не погибает, потому слово такое противное знает. Много ведь случаев. В прошлом году старик в соседней деревне здоровый такой был из себя, соснул тоже так, на гриве, а с того дня стал сохнуть, сохнуть, через год помер. Ну, так и смекают, что не иначе, что влезла к нему. Вредная ведь она: прямо к сердцу присосется и пьет из него кровь; пьет, пьет, пока всю не выпьет, ну, и должен человек помирать от этого. А то еще ощенится, детенышей разведет штук двенадцать, да они примутся тоже сосать, вытерпи-ка тут, когда тринадцать ртов к сердцу присосутся. Не дай бог никому, врагу, не то что…
– Неправда все это…
– Непра-а-вда? – озабоченно протянул Иван и повернулся ко мне всем лицом, – Нет, господин, правда, – проговорил он убежденно, и нотка сожаления к моему невежеству послышалась в его голосе. – Неправда? Весь народ в один голос говорит, – значит, правда. Да вот со мной какой случай был. Подростком я еще был; отец отлучился, а я и вздремнул – пахали мы. Только вот точно кто меня толкнул. Открыл глаза, а она вот этак возле моего локтя свернулась, подняла голову и смотрит на меня, высматривает, значит. Так холод этак меня схватил – не могу ни рукой, ни ногой пошевельнуть, лежу и гляжу, а она на меня глядит. После спустила головку и поползла прочь; уж как ушла в траву, – я как вскочу да крикну! Отец прибежал: что, что такое, а я кричу, а сказать ничего не могу. Это уж верно, – хочешь верь, хочешь не верь. Доктор, он, конечно, по-своему толкует, спит себе, к примеру, на постели, так действительно не влезет, а поспи-ка на траве: даром что доктор, – в лучшем виде залезет, потому что, значит, дозволено ей. И станет залезать, и ничего не поделает, – предел ее такой. В ней тоже ведь своей воли нет же. Доктор тоже ведь… Вот и станция Варюхина.