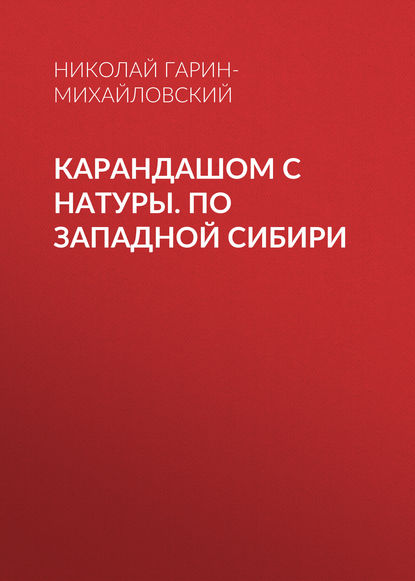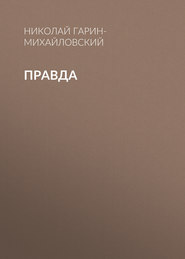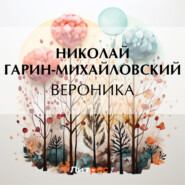По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карандашом с натуры. По Западной Сибири
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Планируете? Линию, значит, наводите?
– Планируем.
– Резев, поди, большой будет?
– Нет, не очень.
– Когда не больно большой, – бойко, убежденно проговорил разбитной парень, – я ведь это дело хорошо знаю. Пойдут это будки, станции, – очень даже большой.
Я не стал возражать этому специалисту.
– Ты кто? – спросил я лениво.
– Мы так… – сухо, с достоинством ответила мне неопределенная личность.
Помолчали и разошлись.
Еще трое. Эти типичные. Средний – громадный мужик с неимоверно большим лицом. Мягкие, толстые губы сложились в такую гримасу, какую часто встретишь в окнах, где висят разные комичные маски с исполинскими ртами. Широкий нос мясисто и тяжело уселся над верхней губой; нижняя челюсть выдвинулась, широкие карие глаза смотрят как-то остро и напряженно. Всклокоченная борода, курчавые черные волосы, – все массивно, крупно и с запахом. Лет ему за пятьдесят. Товарищ его среднего роста, полный, самодовольный, с бегающими глазками, средних лет. Третий – бесцветный, белобрысый, с белой бородой, все время молчал.
Говорят двое.
– На перепутье!
– Мир вам!
Маска смотрит так, как будто вот-вот ухватит меня за горло с воплем: «Держи его!» Так большая мохнатая собака свирепо бежит, и думаешь: вот разорвет. Но что-то доверчивое в ней останавливает руку, взявшуюся за камень. Собака без страха подходит и оказывается глупой доверчивой собакой и вместе с тем симпатичной. Вот такое же впечатление производит и маска Пахома Степаныча.
– Всё ли живеньки-здоровеньки? – проговорил мужик с бегающими глазками, обращаясь к моему старику.
– Живем, поколь господь грехам терпит.
– Ну, и слава богу, – пропел в ответ крестьянин. – Счастье вам, Тальцам, как погляжу, – проговорил он, – всё ямщина – лопатой гребете деньгу.
Он подмигнул на меня и посмотрел вбок.
– Хоть бы нам этакое счастье. Мы ведь, ваше благородие, все здешние места с завязанными глазами знаем.
Ввиду почти всякого отсутствия карт потребность в опытных руководителях никогда не прекращается.
– Так что ж, послужи, если охота.
– С нашим мы удовольствием, со всей охотой.
Маска с завистью посмотрела на пристроившегося товарища.
– Ну, для начала скажи: заливает Томь вон эту лужайку?
– Какую? Вон энтую? Редко же; так сказать, в сорок лет раз, никак не больше.
– Пошто? – выпалила маска.
– Так будто, Пахом Степаныч, – мягко проговорил он.
– Пошто? – опять выпалил Пахом Степаныч. – Бабка Нечаиха коли умерла?
– Ну коли?
– Коли? А телку-то, эвона, бурую-то у меня коли увели?
– Я что-то не припомню.
– Не припомнить? А Никитка, хоть он тебе и дядя, будь он проклят, мое сено коли уволок?
– Ну, и уволок уж!
– Не уволок? Я в тюрьме сижу? Слышь ты, твое благородие, – эвона какое дело вышло, ты только послушай, и тут тебе такие дела откроются. Ну, вот хоть тебя взять, – ты как считаешь: можно человека без вины, без причины валить на землю да нещадно драть розгами?
Пахом Степаныч не то что громко говорил, а прямо кричал.
– Да ты что его благородию шумишь-то?
– Постой, – досадливо перебил его Пахом. – Ты послушай только, господин, какие у нас дела творятся. Рассказать, поди, так не поверишь. А все право. Вот хоть, к примеру, он. Ну что, нешто не били меня?
– Мало били, – шутливо ответил крестьянин.
– Не валили, как быка, на землю? ну?
– Ну что ж? Валили.
– Валили? – с горечью переспросил Пахом. – А по закону это?
– Стало, по закону.
– По закону? Человека обесславили, – я вор, что ли?
– Кто же говорит?
– Так за что ж меня били?! – вскипел вдруг Пахом.
– Да отстань ты, ну тебя… я тебя, что ли, бил? Мировой назначил.
– Мировишка ваш такой же, как и вы все. А за что, ваше благородие, спроси. Банишка паршивая сгорела; она, значит, не сгорела, а хотели за нее деньги получить, будто сгорела, так, ветхая… пять рублей. Назначили меня в осмотрщики. Гляжу я: что такое, где она горелая, когда она вся тут?
– А тебе надо долго было мешаться? свои деньги платили, что ли?
– Постой! – сделал страшную гримасу Пахом, открыв свою бегемотовскую пасть, – не за свое дело стоял, за мирское.
– Ну, вот тебе и мирское, – ехидно хихикнул крестьянин.