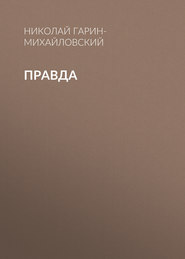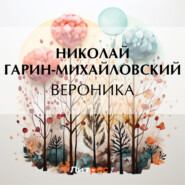По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В сутолоке провинциальной жизни
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В один год со мной: почти напротив жили… Восемь лет всего, и уже не можете прийти в себя от удивления, что увидели всех нас. Хоть назад поступай… Все высшее образование, может быть, не задело даже за то, сидящее и в вас и в каждом, что вы увидели у фотографа. Как раз там, где не требуется никаких дипломов, родословных, набитых карманов. Там и Савелов, которого читает вся образованная Россия, и босяк, который, может быть, удивит всех своим талантом, и все эти неизвестные люди труда, совокупным трудом которых является номер, печатный лист газеты, журнала, – в них истины этики, политики, социальные и экономические истины, проверенные не пальцем, приставленным ко лбу, а мировой наукой… Провалился: корни не в почве, а в корке вдруг оказались… Оказалось вдруг, что наш громадный мир только болото на корочке, что есть другой мир, где и настоящая почва, где и жизнь, и знанье, и искусство, где люди трудятся, мыслят, думают, осмысливают… Да, да… Новые люди из Зеландии приехали, при виде которых в себя прийти не могут. Так вот как. Ну, мне пора…
И Орхов вскочил, торопливо сунул мне и хозяину руку и ушел.
Яков Львович возвратился назад смущенный и, разводя руками, сказал:
– Вот еще чудак… Требует от всех людей какого-то геройства, аскетизма… Точно жизнь вот так и идет по прописи…
Я сидел сконфуженный, смущенный.
– Нет, в самом деле, вам понравился вечер? – говорил тоже смущенный хозяин. – Надо будет и у меня как-нибудь собраться…
– Ну, и мне пора…
Я встал, откланялся и уехал неспокойный и огорченный.
V
Каждый раз, как приезжал в город управляющий, я нетерпеливо спрашивал:
– Ну что? Как поджигатели? Выселяются?
– Да ничего… Пока и не думают они ни о чем, надеются, что до весны не хватит вас. Чичков говорит: «Где это видано, какой закон потерпит, чтобы без суда выселять нас? Не смеет!»
Управляющий махнул рукой.
– Да что говорить? Сплетнями занимаются. Прямо смеются… Еще, говорят, столько же денег привезет. Сам будет и прощения просить. Набаловались.
– За что же прощения просить?
– Дело подорвано… Нужна власть, авторитет!
– Но произвола я не хочу.
– Никакого произвола: именно все на основании закона. Срубил дерево – к мировому: десятерной штраф, а не можешь – в тюрьму… Ни одного слова ругательного… Исаев, голубчик, раз уже есть, Ганюшев – два…
– Попались?
– У меня попадутся!
– Вы все-таки будьте снисходительны…
– Да ведь уж… Я не желаю быть убитым… потому что, если теперь еще малейшую поблажку, то я назад уж не поеду. Три года вы дали мне сроку…
– Но всегда на законном основании?
– Закон мне не враг.
И Петр Иванович при этом смеялся так, что мне тошно было думать и о нем, и о деревне, и о судьбе брошенных мною князевцев.
Пришла весна.
Однажды утром меня разбудили:
– Князевские крестьяне приехали.
Я быстро оделся и вышел к ним.
Двое: Родивон Керов и Пиманов (один из прощенных участников) при моем появлении упали на колени и равнодушно крикнули:
– Не губи!
Я сухо остановил:
– Господа, вставайте – это не поможет…
Тогда они встали. Родивон, не спеша, полез в карман и подал мне сложенный лист бумаги.
Это была торжествующая, не совсем грамотная записка от управляющего.
Вот она:
«Вчера, 19-го апреля сего года, 15 бычьих наших плугов после молебствия с водосвятием приступили к пашне князевского выгона. Вся деревня собралась у моста, смотрела и не верила, когда плуг за плугом выезжал из усадьбы. Когда все плуги выстроились, выехал и я с батюшкой и с 15 верховыми, из которых четыре полесовщика были с ружьями, но никакого бунта не было. День был совершенно летний – от земли даже пар шел. Крестьяне всё стояли у моста, сперва в шапках, но затем, когда началось молебствие, сняли шапки и крестились. По окончании молебна, я, не обращая внимания на них, точно их здесь и не было, скомандовал: „С богом!“ И тогда плуги стали заходить и показалась черная земля. Ну вот, тогда не выдержали первые бабы и завыли. Некоторые из них упали на землю и действительно горько плакали. Я им сказал: „Вот до чего вы себя довели“. Только тогда мужики тоже не выдержали и подошли ко мне (без шапок). Подошли и говорят:
„Останови пашню: соглашаются приговоренные уехать“. Как я потом уже узнал, им прямо на сходе сказали: „Убьем вас этой же ночью, если не уедете!“ Так вдруг переменилось дело, но я и глазом не моргнул, что будто вот обрадовался. „Мне, говорю, все равно, что поп, что черт: вы, барин ваш – от кого жалованье получаю и приказание получаю… Не я, так другой… такой же, как и вы, подневольный. Поезжайте в город, привозите от барина записку, и кончу пахать“. Удостоверяю, что все пять семейств уже укладываются».
Так были изгнаны мною из Князевки пять зачинщиков из самых зажиточных дворов.
VI
Между тем я получил место довольно далеко отсюда. Петр Иванович перед моим отъездом настоятельно звал меня в деревню. Он говорил:
– Теперь и безопасно…
– Я никогда и не боялся… – вставил я.
– И полезно для дела, и наконец… э… это будет доказательством того, что вы их простили… э… помирились с ними… все-таки… э… Дети ведь они, а вы… э… отец их… Наконец… э… Ну, вы увидите…
Петр Иванович снисходительно улыбнулся:
– Ну, как я… э… там справляюсь: может быть, недовольны останетесь мной… Нет, уж вы поезжайте: необходимо…
Я сдался и поехал.
Я приехал в деревню, когда весна была уже в полном разгаре.
Посевы взошли, и молодая их зелень беззаботно нежилась в привольном просторе яркого до боли весеннего деревенского дня. Тучки белые, нежные безмятежно плыли по голубому небу; молодой лес, точно узнав, ласкал меня приветливо своим нежным говором.
Я опять переживал неотразимую силу очарования этого праздника природы. Каждый уголок князевских земель, каждая межа и дорожка говорили, будили воспоминания, все словно шептало: «Забудем тяжелое прошлое, сольемся опять в одно для производительной работы».