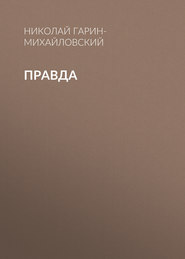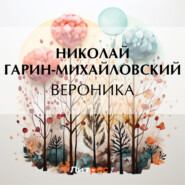По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В сутолоке провинциальной жизни
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Офицер пел выразительно, красиво и с чувством.
И вся его фигура, статная, с открытым, доверчивым лицом, голубыми глазами, очень подходила к песне.
После офицера пела барышня, нарядная, изящная. Она училась в консерватории и приехала теперь домой.
У нее было колоратурное сопрано, и голосок ее звенел нежно. Когда она делала свои трели, казалось, комната наполнялась мягким звоном серебряных колокольчиков.
Ее заставили несколько раз спеть.
– Кто она? – спросил я подошедшего хозяина.
– Норова, дочь одного бедного еврея, лавочку имеет.
– У нее прекрасный голосок, – сказал я, – но вряд ли годится для большой сцены.
– На маленькой будет петь.
Еще одна барышня пела, и у этой был свежий, выразительный голос.
После пения играли на скрипке, – соло, дуэт с роялью, рояль соло.
И игра была прекрасная.
Я, житель юга, привык к музыке, пению и в своем обществе скучал за этим.
После музыки хозяин позвал закусить чем бог послал. Бог послал немного: две селедки, блюдо жареной говядины, груду хлеба, две бутылки водки и батарею бутылок пива.
– А после ужина, когда прочистятся голоса, – говорил хозяин, – мы хором хватим.
После ужина хватили хором и пели долго и много.
Когда я проходил мимо группы молодых людей, сидевших за столиком и пивших пиво, меня окликнули по имени и отчеству.
– Не узнаете? – спросил окликнувший тихим сиплым голосом, ласково улыбаясь.
Я напряг свою память: где я видел эту застенчивую, сутуловатую фигурку, смотрел в эти черные глаза, слышал этот тихий сиплый голос?
– Вы статистик, Петр Николаевич? Извините, фамилию забыл.
– Антонов, он самый, присаживайтесь, позвольте познакомить: сотрудники местной газеты.
Петр Николаевич года два назад по делам статистики заезжал ко мне в имение.
Принял я было его тогда очень плохо.
Он вошел прямо в кабинет, а я, думая, что это какой-нибудь писарь с окладными листами, сухо спросил его:
– Отчего вы в контору не прошли?
– Извините, – весело ответил Петр Николаевич и уже пошел, когда я догадался спросить его, кто он.
Петр Николаевич прожил у нас тогда несколько дней, и в конце концов мы расстались с ним в самых лучших отношениях.
Я очень обрадовался ему. Его товарищи скоро ушли, и я, так как деревня каким-то непереваренным колом постоянно торчала во мне, на вопрос, как идут мои дела в деревне, рассказал Антонову о всех своих злоключениях.
Антонов, согнувшись, внимательно слушал меня и, когда я закончил, задумчиво сказал:
– Какой богатый материал… Если бы вы могли написать так, как рассказали… Отчего бы, в самом деле, вам все это не описать?
– Для чего?
– Напечатать.
– Собственно, кому это интересно?
– Интересна здесь деревня, ваши отношения… Насколько я понял, вы ведь вперед, так сказать, предугадали реформу и были… добровольным и первым земским начальником… Нет, безусловно интересно и своевременно…
– Если печатать, то где же?
– В «Русской мысли», в «Вестнике Европы».
– Шутка сказать!
– Вы напишите и дайте мне.
– А вы какое отношение имеете к этому?
– Я тоже пишу.
– Что?
– Очерки, рассказы.
– Вы где пишете?
– Прежде писал в «Отечественных записках», теперь в «Русской мысли».
– Вы и тогда, когда у меня были, тоже писали?
– Да.
– Отчего же вы ничего не сказали тогда?
– Не пришлось как-то.
– Вы что написали?
– «Максим-самоучка», «Дневник учителя», несколько рассказов. – Он назвал свой псевдоним. – Читали?