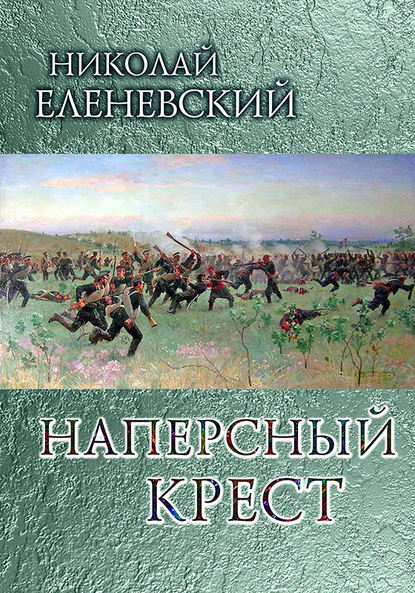По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наперсный крест
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Первая линия, туры во фронт!!! – закричал Миранович.
– Туры во фронт!! – эхом отозвались его офицеры и офицеры соседних рот.
– Приготовиться стрелкам!!
– …кам-ам-ам, по команде!!
– Вторая линия, товсь!!
Каненберг осмотрелся по сторонам, еще выше поднял знамя и заторопился на небольшое возвышение. Навуменко и Федоров словно прилипли к нему. Не отставал и я.
– Вот, отец Сергий, не сподобил нам святой дух допереть туда, куда указывалось! – Навуменко сжал рукоятку своего «митька», и было заметно, как побелели его пальцы от напряжения. – Ох и хитер турок, ох хитер! А дошли бы мы до холмов, иное дело. Теперь нас…
Он не договорил, земля наполнилась каким-то гулом, и вот уже отчетливо зашелестел над холмами лошадиный топот, слегка смягчаемый густым дунайским травостоем. На миг мне почудилось, что только мы четверо и стояли перед этим гулом, и Каненберг сурово свел на переносице свои, как орлиные крылья, брови. На его юношеское лицо лег румянец.
Топот нарастал с ужасающей быстротой, надвигающаяся на нас черная волна катила так, словно для нее не существовало никаких препятствий.
– Ну, сейчас басурман…
– Навуменко, не вздыхать!
– Оно понятно, ваше благородие! Конечно, вот только у преподобия и оружия-то никакого, разве что крестом басурмана лупить будет!
– И крестом тоже!
Над лугом разлилось, понеслось, срывая со склонов последние лоскуты тумана, обозначенное сверканием сабель неудержимое «Алла-а-а!».
«Вот она какая, война», – мелькнула мысль уже совсем не в продолжение той, предыдущей, радостной от ощущения близости вершины: – «Устоим ли?»
– Господи, Боже наш послушавый…
– Ваше преподобие, если можно, говорите громко! – попросил Федоров, не сводя глаз с приближающейся черной волны. И навстречу этому «Алла-а!» раздалось вдруг до невероятности, до болезненности обычное, даже будничное:
– Товсь, пли!!! Товсь, пли!!!
И оружейный треск.
Заржали, закувыркались лошади, валились на землю снопами люди…
И заплескалось над придунайскими лугами «Господи Боже… урр-а-а!» вперемешку с «Аллах акбар!». Я уже не видел, не понимал и не осознавал всего того, что творилось вокруг. Каненберг стоял со знаменем как вкопанный. Я стоял рядом и как можно громче, словно хотел перекричать всю эту вакханалию смерти, провозглашал, держа перед собою наперсный крест:
– …ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас молящихся, сохрани воинство Его, посли ангела твоего, укрепляюща их, подаждь им вся, яже ко спасению прощения…
Прапорщики, присев на колено, куда-то целились из револьверов, стреляли, что-то кричали офицеры, где-то громко звали на помощь раненые…
…И вдруг мне явственно послышалось, как о полотнище знамени защелкали пули, минуя нас, как они свистели у головы или рыхлили землю под моими сапогами. Вот завалился наземь прапорщик Навуменко, остервенело отбивался от наседавших турок Федоров. Живым щитом нас окружили подоспевшие солдаты и встали между нами и наседавшими турками.
Захрипел и обвис на древке знамени Каненберг. На его губах пузырилась алая пена. Стремясь не уронить знамя, подпоручик обнял древко двумя руками, прижался к нему, словно не он держал его, а оно придавало силы стоять под этим градом пуль.
– …и в день праведного воздания твоего воздай венцы нетления…
– Отец Сергий, отец Сергий!!!
Я шагнул к Каненбергу, подставил плечо, но он уже оползал наземь:
– Знамя, ваше преподобие, знамя, выше, выше, вы-ы… – он силился еще что сказать, но упал навзничь, раскинув руки.
Я даже не понял, не прочувствовал то мгновение, когда знамя оказалось в моих руках и я поднял его над головой. Просто увидел, что целился в меня из пистолета турецкий офицер, как болью исказилось залитое кровью повернутое ко мне лицо прапорщика Федорова, как устремились наперерез турецкой пуле несколько солдат. И ощутил сильные удары в грудь, заставившие меня пошатнуться, даже сделать шаг назад. Но я устоял. Это было невероятно, но я чувствовал, что силы во мне есть. Боль была тяжелой, но несмертельной. Моя первая боль на войне. И я шагнул вперед. Испуганно передернулось лицо турка, не поверившего в то, что промахнулся с какого-то десятка метров. Он еще несколько раз нажал на спусковой крючок пистолета, затем что-то закричал и начал пятиться. Турецкие солдаты тоже, недоумевая, замерли, уставились на меня во все глаза. Я и сам толком не мог понять, что же все-таки произошло и почему остался жив. Подняв знамя, я широко зашагал вперед, туда, к вершине холма. Навуменко с рядовым Корчиком с двух сторон шли со мной…
Там вздыбливала землю наша артиллерия, там плечом к плечу уже сражались с наседавшими турками русские, болгары, сербы… Я нес знамя и думал только об одном: «Сподоби меня, Господи, донести!»
Уже на вершине, когда турки не устояли и отступили к дороге, ведущей из Систова дальше за Дунай, а солдаты начали устанавливать и крепить туры, я передал знамя кому-то из офицеров и стал приводить себя в порядок, ибо ряса в нескольких местах была и порвана, и побита. На наперсном кресте виднелись вмятинки от двух турецких пуль. Одна выше распятия, другая у его основания. Одна из пуль, отрикошетив от креста, слегка оцарапала грудь. Рядовой Корчик, бинтуя рану, радостно повторял:
– В рубашке родились, отец Сергий.
Подбежавшие к вершине солдаты, охрипшие от непрестанного «Ур-а-а!», опьяненные радостью первой победы, окружили нас:
– Наш батюшка никак заговоренный. Басурман-то ведь в него из пистолета почти в упор!
– В упор, на моих глазах!
– Значит, промахнулся!
– Вроде как не похоже на то!
– Да вот, батюшка-то наш живой и невредимый.
Солдаты заспорили, каждый стоял на своем.
– А то, что не мог он с такого расстояния промахнуться. Батюшка ведь перед ним во весь рост, всей грудью нараспашку…
– М-да, дела, брат!
– А что, хорошие дела! Что значит человек под Богом!
Миранович, прижимая к груди пробитую пулей руку, превозмогая боль, спросил:
– Говорят, что в упор бил турок?
– Да как сказать!
– А куда же попал?
– Вот сюда, – и я показал на наперсный крест.
– Невероятно!! – он прикоснулся к распятию. – Невероятно!
Затем подошедший Петров долго и внимательно рассматривал крест, рассуждал о законах баллистики, вероятности и невероятности с математической точки зрения. Его удивлению не было предела.
– Туры во фронт!! – эхом отозвались его офицеры и офицеры соседних рот.
– Приготовиться стрелкам!!
– …кам-ам-ам, по команде!!
– Вторая линия, товсь!!
Каненберг осмотрелся по сторонам, еще выше поднял знамя и заторопился на небольшое возвышение. Навуменко и Федоров словно прилипли к нему. Не отставал и я.
– Вот, отец Сергий, не сподобил нам святой дух допереть туда, куда указывалось! – Навуменко сжал рукоятку своего «митька», и было заметно, как побелели его пальцы от напряжения. – Ох и хитер турок, ох хитер! А дошли бы мы до холмов, иное дело. Теперь нас…
Он не договорил, земля наполнилась каким-то гулом, и вот уже отчетливо зашелестел над холмами лошадиный топот, слегка смягчаемый густым дунайским травостоем. На миг мне почудилось, что только мы четверо и стояли перед этим гулом, и Каненберг сурово свел на переносице свои, как орлиные крылья, брови. На его юношеское лицо лег румянец.
Топот нарастал с ужасающей быстротой, надвигающаяся на нас черная волна катила так, словно для нее не существовало никаких препятствий.
– Ну, сейчас басурман…
– Навуменко, не вздыхать!
– Оно понятно, ваше благородие! Конечно, вот только у преподобия и оружия-то никакого, разве что крестом басурмана лупить будет!
– И крестом тоже!
Над лугом разлилось, понеслось, срывая со склонов последние лоскуты тумана, обозначенное сверканием сабель неудержимое «Алла-а-а!».
«Вот она какая, война», – мелькнула мысль уже совсем не в продолжение той, предыдущей, радостной от ощущения близости вершины: – «Устоим ли?»
– Господи, Боже наш послушавый…
– Ваше преподобие, если можно, говорите громко! – попросил Федоров, не сводя глаз с приближающейся черной волны. И навстречу этому «Алла-а!» раздалось вдруг до невероятности, до болезненности обычное, даже будничное:
– Товсь, пли!!! Товсь, пли!!!
И оружейный треск.
Заржали, закувыркались лошади, валились на землю снопами люди…
И заплескалось над придунайскими лугами «Господи Боже… урр-а-а!» вперемешку с «Аллах акбар!». Я уже не видел, не понимал и не осознавал всего того, что творилось вокруг. Каненберг стоял со знаменем как вкопанный. Я стоял рядом и как можно громче, словно хотел перекричать всю эту вакханалию смерти, провозглашал, держа перед собою наперсный крест:
– …ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас молящихся, сохрани воинство Его, посли ангела твоего, укрепляюща их, подаждь им вся, яже ко спасению прощения…
Прапорщики, присев на колено, куда-то целились из револьверов, стреляли, что-то кричали офицеры, где-то громко звали на помощь раненые…
…И вдруг мне явственно послышалось, как о полотнище знамени защелкали пули, минуя нас, как они свистели у головы или рыхлили землю под моими сапогами. Вот завалился наземь прапорщик Навуменко, остервенело отбивался от наседавших турок Федоров. Живым щитом нас окружили подоспевшие солдаты и встали между нами и наседавшими турками.
Захрипел и обвис на древке знамени Каненберг. На его губах пузырилась алая пена. Стремясь не уронить знамя, подпоручик обнял древко двумя руками, прижался к нему, словно не он держал его, а оно придавало силы стоять под этим градом пуль.
– …и в день праведного воздания твоего воздай венцы нетления…
– Отец Сергий, отец Сергий!!!
Я шагнул к Каненбергу, подставил плечо, но он уже оползал наземь:
– Знамя, ваше преподобие, знамя, выше, выше, вы-ы… – он силился еще что сказать, но упал навзничь, раскинув руки.
Я даже не понял, не прочувствовал то мгновение, когда знамя оказалось в моих руках и я поднял его над головой. Просто увидел, что целился в меня из пистолета турецкий офицер, как болью исказилось залитое кровью повернутое ко мне лицо прапорщика Федорова, как устремились наперерез турецкой пуле несколько солдат. И ощутил сильные удары в грудь, заставившие меня пошатнуться, даже сделать шаг назад. Но я устоял. Это было невероятно, но я чувствовал, что силы во мне есть. Боль была тяжелой, но несмертельной. Моя первая боль на войне. И я шагнул вперед. Испуганно передернулось лицо турка, не поверившего в то, что промахнулся с какого-то десятка метров. Он еще несколько раз нажал на спусковой крючок пистолета, затем что-то закричал и начал пятиться. Турецкие солдаты тоже, недоумевая, замерли, уставились на меня во все глаза. Я и сам толком не мог понять, что же все-таки произошло и почему остался жив. Подняв знамя, я широко зашагал вперед, туда, к вершине холма. Навуменко с рядовым Корчиком с двух сторон шли со мной…
Там вздыбливала землю наша артиллерия, там плечом к плечу уже сражались с наседавшими турками русские, болгары, сербы… Я нес знамя и думал только об одном: «Сподоби меня, Господи, донести!»
Уже на вершине, когда турки не устояли и отступили к дороге, ведущей из Систова дальше за Дунай, а солдаты начали устанавливать и крепить туры, я передал знамя кому-то из офицеров и стал приводить себя в порядок, ибо ряса в нескольких местах была и порвана, и побита. На наперсном кресте виднелись вмятинки от двух турецких пуль. Одна выше распятия, другая у его основания. Одна из пуль, отрикошетив от креста, слегка оцарапала грудь. Рядовой Корчик, бинтуя рану, радостно повторял:
– В рубашке родились, отец Сергий.
Подбежавшие к вершине солдаты, охрипшие от непрестанного «Ур-а-а!», опьяненные радостью первой победы, окружили нас:
– Наш батюшка никак заговоренный. Басурман-то ведь в него из пистолета почти в упор!
– В упор, на моих глазах!
– Значит, промахнулся!
– Вроде как не похоже на то!
– Да вот, батюшка-то наш живой и невредимый.
Солдаты заспорили, каждый стоял на своем.
– А то, что не мог он с такого расстояния промахнуться. Батюшка ведь перед ним во весь рост, всей грудью нараспашку…
– М-да, дела, брат!
– А что, хорошие дела! Что значит человек под Богом!
Миранович, прижимая к груди пробитую пулей руку, превозмогая боль, спросил:
– Говорят, что в упор бил турок?
– Да как сказать!
– А куда же попал?
– Вот сюда, – и я показал на наперсный крест.
– Невероятно!! – он прикоснулся к распятию. – Невероятно!
Затем подошедший Петров долго и внимательно рассматривал крест, рассуждал о законах баллистики, вероятности и невероятности с математической точки зрения. Его удивлению не было предела.