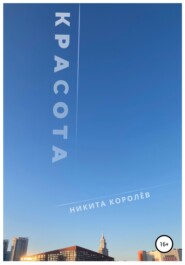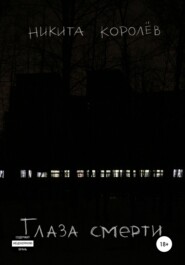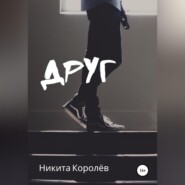По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жёванный сыр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жёванный сыр
Никита Королёв
Любовь и смерть – две стороны одной монеты. А на её ребре – страх, стыд, сомнения, но в конце концов – счастье. Встречайте сборник рассказов Никиты Королёва о его тёзке, познавшем любовь, смерть и всё, что между ними.
Никита Королёв
Жёванный сыр
Предупреждение
Все персонажи, равно как и события, происходящие с ними, являются плодом авторской воспалённой фантазии. Все совпадения же с реальной жизнью являются плодом вашей воспалённой фантазии.
Кукла
Её звали Прокофий, ей было пятнадцать, и она была мертва. Вообще-то её звали Женей, но, поскольку имена усопших остаются только на надгробиях и в воспоминаниях близких, она отказалась от этого имени и спросила новое у случайности. Генератор рандомных имён назвал её Прокофием Цветковым. Теперь сетевая общественность и окружавшие Женю люди звали её именно так.
Прокофий не знала, когда она умерла – у её смерти, в отличие смерти обыкновенной, физической, не было точной даты. Прокофий поняла, что умерла, когда училась в седьмом классе. Одним осенним вечером она возвращалась с занятий и возле дома, в торце, где стояли припаркованные машины, увидела труп, лежавший на мокром асфальте. Он был прикрыт чёрным полиэтиленом, но, странное дело, никого рядом не было. Как будто тело было плодом воображения Прокофия или чьим-то злым розыгрышем. Прокофий подошла к трупу поближе. Полиэтилен чуть отходил от тела у головы – наверное, сдуло ветром, – и Прокофий увидела лицо мужчины лет сорока, белое, ничего не выражавшее, с лиловыми губами. Она увидела и поняла, что ничего не чувствует: ни страха, ни грусти. Её даже не интересовало, что с ним случилось. Зато Прокофию понравились эти лиловые губы. Они выглядели так, будто этот мужчина умер, объевшись черники или смородины. Наконец вдали послышался вой сирены – не то скорой, не то полиции, – и Прокофий, нисколько не ускоряя шаг, пошла домой.
С восьмого класса Прокофий стала учиться на «отлично». Она сама не понимала, как это вышло: она просто обнаружила, что, сидя на уроках в школе или делая домашку, она больше не испытывает того томительного чувства, которое раньше заставляло её постоянно смотреть на часы или заглядывать в телефон. Она больше не надеялась на что-то большее, чем у неё было сейчас, и учёба – эти дискриминанты, синусы, косинусы, даты, имена, сложноподчинённые предложения, системы образов, реформы, зоны оптимума и пессимума, диффузия и закон Ома, определения общества и морали, тяжёлая промышленность Норильска – всё это стало как бы зерном, которое не давало жерновам её мозга размолоть самих себя.
Но и учёба не спасала Прокофия от ощущения ужасающей плоскости мира. Иногда, на короткое время, это ощущение сгущалось до того, что Прокофий начинала видеть мир как телепрограмму, включённую где-то посередине. И даже собственное тело становилось для неё чем-то чужим, ей неподконтрольным – вернее, оно будто просто переставало притворяться её телом. Хоть такие приступы «нереальности» и случались с Прокофием почти ежедневно, каждый раз это заставало её врасплох: если она говорила, то замолкала, если шла, то останавливалась, если думала о чём-то, то забывала о чём.
У Прокофия была сестра Алёна, старше неё на полтора года. И она была живее всех живых: постоянно улыбалась, смеялась, в минуты особенной радости припрыгивая и вереща, любила добрые истории, не любила злые, выдумывала свои языки, отдавала беднякам в переходах бутерброды, которые её давала мама в школу, ни на минуту не умолкала и могла подолгу говорить о чём-то понятном одной только ей. Алёна была счастливым ребёнком, и всё говорило о том, что она будет им всю жизнь. Вопрос о реальности происходящего для неё не стоял: жизнь даже в таком сером и угрюмом городе, как Москва, пестрела в её глазах ярче, чем у нейрофизиологов-шестидесятников.
Как это часто бывает, дети не смогли поделить поровну то, что дали им родители: насколько любила жизнь – а значит, и верила в неё – Алёна, настолько же не любила жизнь и не верила в неё Прокофий.
Но несмотря на замкнутый характер Прокофия, друзья у неё всё же были: одноклассница Маша и двое других ребят из школы – Монтэг и Никита. Маша была маленькой черноволосой оторвой, перепробовавшей к своим пятнадцати уже всё и со всеми. Она была из богатой семьи и жила в кирпичной высотке напротив школы. Возле лифта на её этаже стоял огромный плюшевый Гарфилд в королевской мантии, со скипетром в руках и короной на голове. Под этой короной Маша со своими маленькими любовниками прятала презервативы. Маша была для Прокофия тем чесноком, который единственно чувствуется во время насморка, грубым воздействием на воспалённую слизистую. У Прокофия не было ни денег, ни особого желания, чтобы вкушать все эти прелести жизни самой, но с Машей этого хотелось и это моглось. Впрочем, она ограничивалась только алкогольными дегустациями – давало о себе знать хорошее воспитание. Но и на этом они с Машей один раз сильно погорели, когда пухлый учитель истории застукал их в школьном туалете распивающими принесённую Машей настойку. Прокофия не особо интересовало, зачем историк зашёл в женский туалет, – она поняла только, что больше ей таких сгущений жизни на надо, и перестала общаться с Машей.
Двумя другими друзьями были Монтэг и Никита. И тот, и другой были довольно типичными обитателями тёмных комнат, освещённых одним только светом монитора. И у того, и у другого на этих мониторах сначала показывались всякие игрушки типа «доты» и «каэски», а потом – текстовые редакторы и разноцветные дорожки и ползунки звукорежиссерских программ. Оба они были немного музыкантами, немного поэтами, немного философами. И оба они нравились Прокофию. Но Никита нравился ей чуть больше, потому как и во всех этих «немного» он продвинулся чуть дальше Монтэга. Однако он был старше Прокофия почти на пять лет, а в их юном возрасте такая разница особенно заметна. Так что после двух лет тихой и мучительной симпатии, когда Никита, закончив одиннадцатый класс, поступил в Литинститут, Прокофий всё-таки его отпустила.
С Монтэгом (его на самом деле звали Даней, а Монтэг был его творческим псевдонимом) их разделяло всего три года разницы, но и с ним ничего не срослось – после объяснений выяснилось, что чувства не взаимны.
Вместе они формировали костяк их небольшой компании, которой они гуляли по окрестным паркам или выезжали в ближайшее Замкадье.
Одной из таких вылазок стало паломничество в Чертаново – к дому, где, как сообщали проныры с НТВ, был прописан и, возможно даже, временами жил Пелевин. Никто из ребят не знал, где точно расположен этот дом, – видели его только на кадрах новостного сюжета, за спиной у репортёра. Да и тот сюжет снимали зимой, тогда как сейчас была середина лета. Поэтому, высадившись в Чертаново, ребята пошли на зов своего тронутого экзистенциальным холодком сердца, и где-то после получаса ходьбы перед ними выросли три рыжих дома-колонны, те самые, которые были за спиной у репортёра.
Немного помявшись в ближайшем сквере, будто им было бы вполне достаточно посмотреть на тот-самый-дом издалека, ребята наконец направились к нему и, подойдя, сели на лавочку у подъезда. На их глазах в дом вошла какая-то девушка с петличкой на лацкане жакета, похожая на ведущую с какого-то провинциального новостного канала, и такого же провинциального вида парень, снимавший её на телефон. Вскоре они оба вышли, развёрнутые консьержем. Сочтя ребят за жителей дома, они попросили их впустить их в дом. Ребята ответили решительным отказом, сославшись на то, чтобы не могут брать на себя такую ответственность. Конечно, они просто не хотели выдавать себя перед такими же охотниками за Единственным и Неповторимым, как и они сами.
Когда горе-журналисты наконец ретировались, ребята осмелели и стали спрашивать всех проходивших мимо них – к подъезду или из него – людей, знают ли они что-нибудь про их великого соседа. Одни честно признавались, что и не знают, и шли дальше. Другие, очевидно, чтобы восполнить недостаток внимания, роняли на ходу что-то вроде «Да, живёт здесь такой» и тут же скрывались за подъездной дверью.
В один момент из дома вышла старушка с седыми войлочными волосами, в цветочном платье и села на скамейку напротив ребят. Никита на свою беду спросил и у неё про мифического жильца. Старушка, ответив, что Пелевин действительно здесь живёт, тут же спросила Никиту, не боится ли он «получить в рожу» от великого литератора. Ребята, переглянувшись, засмеялись. Только Прокофий молчала, изучая взглядом старушку. Она, заметив это, повернулась к Прокофию и сказала: «А ты что смотришь, кукла?» Воистину то был дом людей, умеющих подобрать правильное слово. Потому что Прокофий и вправду была не иначе, как куклой. Куклой, сидящей на высокой полке и смотрящей с той же равнодушной полуулыбкой на жизнь и на смерть, на счастье и на горе, на семейную идиллию и пытки военнопленных. Улыбку эту не стирала с её лица даже физическая или моральная боль: тогда только из её глаз, будто сами собой, начинали литься холодные, рефлекторные слёзы.
Сходство было и внешним: длинные ресницы, миниатюрный носик, тёмно-русые, чуть вьющиеся и всегда хорошо расчёсанные волосы, чистая, отливающая фарфоровым блеском кожа. Прокофий походила на куклу какого-то старого, скрывающего под своей скрупулёзностью душевную дыру коллекционера.
В девятом классе жизнь Прокофия резко и сильно сгустилась. Во-первых, Прокофий вдруг поняла, что хочет стать кинооператором, и пошла на подготовительные курсы при киноколледже №40. Во-вторых, Никита вдруг признался ей в любви. Это произошло осенью, во время их очередных домашних посиделок, участившихся после того, как теперь уже Алёна, впечатлившись летними встречами, пробовала свои силы в покорении Никитиного сердца. Они вместе гуляли, а по субботам она приходила к нему домой, и они работали над обложкой к его песне: Алёна рисовала, а Никита продумывал идею и направлял процесс в нужное русло. Прокофий знала, что инициатором всего этого была Алёна, но думала, что Алёнины чувства взаимны, и ждала момента, когда они уже возьмутся за руки.
Поэтому объяснение, которое произошло между ребятами ночью в спящей квартире, было для неё полной неожиданностью. Они, как всегда, разговаривали о чём-то отвлечённом – Алёна, – лёжа на своём диване, а Прокофий и Никита – сидя на приставленной к дивану раскладушке, которую специально для Никиты родители девочек привезли с дачи, – и вдруг Никита стал гладить Алёну по волосам. Он лишь хотел оказать ей, положившей голову на край его раскладушки, невинную дружескую ласку. Но в этой ласке был и тайный, низкий смысл. Таким образом Никита хотел как бы умалить – в глазах Прокофия и в своих собственных – значение этого действия до пустяка, вполне позволительного и для друзей, чтобы без лишних объяснений прикоснуться к Прокофию. И когда Никита почувствовал, что его совесть и моральный облик в безопасности, свободной рукой он притянул Прокофия (та как намагниченная прижалась к его груди) и стал гладить по волосам. Одна его рука, гладившая Алёну, была мягка и спокойна, а другая, гладившая Прокофия, тряслась и немела. И через некоторая время Алёна, видимо, почувствовав эту разницу напряжений (человек феноменальной чуткости и интуиции, она была как антенна, которая принимала даже больше, чем могла понять), отстранилась, переложила голову на подушку и тихо проговорила: «Нет, я не могу так». Никита, перестав гладить и Прокофия, спросил, как «так», будто бы сам не понимал. Алёна сказала: «Когда всех сразу. Ты уж определись». На какое-то время все и всё как будто замерло. А потом Никита, раскаявшись в этой своей подлой лжи, отодвинулся от Прокофия (её тоже вмиг как отмагнитило от Никиты), сказал: «Да, я понимаю, о чём ты, это неправильно» и как будто куда-то засобирался. Но после этого он ещё долго сидел на раскладушке, смотря обречённо в пол и нервно теребя только отпущенную, ещё короткую бороду. А затем, наконец решившись, он спросил Алёну тонким от напряжения голосом, довольна ли она их дружбой, хотелось бы ей что-то поменять. На второй вопрос Алёна ответила утвердительно, но, когда Никита спросил, что? именно ей хотелось бы поменять, она смущённо усмехнулась и сказала: «Ты знаешь». «Да, я знаю, – ответил Никита, – но я не могу тебе этого дать, я не испытываю этого к тебе». Алёна сказала, что догадывалась об этом и что была к этому готова. И ещё, что Никите не за что извиняться и что она легко сможет «отсечь всё лишнее». Никита верил в это, понимая, что несчастная, неразделённая любовь – неотъемлемый, как мешки под глазами, признак всех несчастных людей, к которым Алёна явно не относилась, но ему всё равно было тяжело. Потому что вторая, главная часть этого объяснения ещё ожидала впереди. И, снова собравшись с мыслями, Никита к ней приступил. Как-то мрачно, даже как будто презрительно посмеиваясь, он сказал, что с недавних пор стал испытывать к Прокофию «обыкновенную симпатию» – проще говоря, влюбился. И что он бы смолчал и тут же бы, объяснившись с Алёной, ушёл, но он подумал, что, если вдруг его чувства к Прокофию взаимны, было бы неправильно лишать себя счастья любви.
Прокофий, сидящая, прислонившись к стене, на Алёнином диване, сказала, что тоже питает чувства к Никите. По инерции былой симпатии она действительно так думала. Ей до сих пор нравились его серые, всегда как будто овеянные мечтательной дрёмой глаза, широкий, хоть и прыщеватый, лоб и красивые жилистые руки. Когда с объяснениями было покончено, Никита стал собираться – на этот раз уже по-настоящему. Он не понимал, как себя вести после всего произошедшего, – в кино обычно за такими моментами сразу же следует монтажная склейка, после которой героев, уже как пару, показывают занимающимися какими-то будничными делами. И Никита, смущаясь наступившего в комнате затишья, торопливо собирался домой – чтобы в следующий раз встретиться уже как пара. Но перед тем, как Никита ушёл, они с Прокофием, стоя в тёмной прихожей, поцеловались. У Никиты были тонкие, с щекотавшимися над ними усиками, губы, но это было терпимо.
Родителей, уже приписывавших Никиту Алёне, потряс такой поворот. Но они не могли ничего сделать с тем, что Алёнино жизнелюбие было чуждо Никите: он хоть и не был ещё мёртв, но уже долгое время бился в предсмертных конвульсиях, видя в этих конвульсиях свою жизненную борьбу и делая из своих воплей и стонов разные поделки: песни, стихи, рассказы. А, посмотрев на прибавившую в женственности Прокофия, он понял, что его миссия – спасти её, воскресить и через это благодеяние воскреснуть самому. За этим пасхальным пафосом Никита не смог распознать своих истинных желаний, точнее, только одного, детского желания – поиграть в куклы.
У девочек в то время были школьные каникулы, так что они сидели дома у Прокофия и Алёны, кружка за кружкой пили чай, разговаривали, пели под гитару и слушали Никитины пары, которые уже два года проходили в его загнивающем институте дистанционно. Иногда ходили гулять, но, куда бы они ни пошли, всегда ноги выводили их к треклятому парку Стрешнево.
Никита почти каждый день оставался у девочек ночевать. Никто из родителей не был против: маме Ирине их посиделки напоминали её собственные, из молодости, с такими же песнями под гитару и разговорами о жизни, так что она только радовалась происходящему, освежая ребятам чай и снимая их наиболее удачные музыкальные номера; Алексею же, отцу семейства, которому в скором времени должен был «стукнуть полтинник», сейчас как нельзя кстати пришлись Никитины пространные размышления о жизни.
С той самой ночи Прокофий спала вместе с Алёной на диване – разумеется, ближе к краю, где стояла Никитина раскладушка, – и, когда выключался свет, они с Никитой, выждав немного, начинали игру. Играть можно было только руками и губами, за нарушение этого правила – укоризненный скрип раскладушки. Игровое поле – руки, лицо, волосы и всё, что выглядывает из-под мучительно длинных пижам. Но даже на этом тесном пятачке они смогли устроить настоящий «Диснейленд», заботясь только о том, чтобы чмоканья их губ не разбудили спавшую рядом Алёну.
Сначала Никита брал нежными полукасаниями, несущими свой невыносимо лёгкий шлейф по границе дозволенного. А потом, не то по аккуратной наводке Прокофия, не то сам, интуитивно, Никита понял, что ей нравится пожёстче. И когда он смотрел, как в рассыпчатой темноте под его руками сжимается ещё совсем детская шейка Прокофия, когда слышал её тяжелое от удовольствия и удушья дыхание, он настолько поражался видимому и слышимому, что забывал моргать, пока на его глазах не проступали слёзы. Но понемногу он вошёл во вкус, и их игры превратились в сплошное наказание: удушение, оттягивание волос, большой палец, властно водящий по пухлым губам и вдавливающий их в маленькие сахарные зубки. А затем к этому прибавились ещё наказания не-наказанием, когда рука, уже обхватившая шею почти до мочек или уже забравшая волосы у самых корней, вдруг меняла свои планы и скользила дальше. А утром снова велись многословные разговоры, звучали песни и смех, так что казалось, что эти двое, молчащие и играющие, – какие-то другие люди или куклы, ожившие, на радость ребёнку или к его ужасу, в темноте.
Никита, размышляя о грубом характере их ночных игр, объяснял себе его пылом страсти, толкавшемся в тесном стойле данного родителям обета целомудрия. На самом же деле Прокофий просто хотела что-то почувствовать: её тело, внешне мягкое, как августовский персик, внутри самой Прокофием ощущалось как холодный фарфор.
Как-то Прокофий и Никита, записав у него дома песню, вышли на общий балкон. Вид с 28-го этажа был красив: чернеющая в ночи мозаика города, небо, как будто залитое черничным йогуртом. Но красота эта нисколько не трогала ни Прокофия, ни Никиту, словно бы не проникая глубже сетчатки их глаз. Они пытались её уловить, пытались откликнуться на этот громогласный призыв к восторгу, как дети, подведённые родителями за ручку к «Моне Лизе», но, чем пристальнее они вглядывались, тем больше городской пейзаж распадался на отдельные детальки какого-то дешёвого, воняющего китайским заводом конструктора. Наконец Прокофий прервала молчание, сказав, что ей кажется, будто катящиеся внизу машинки, скрываясь за домами, исчезают или что их там разворачивают и пускают в обратную сторону. Тогда Никита, глубоко вздохнув, начал свои длинные рассуждения о синдроме дереализации, о его физиологической и духовной сторонах, поведал о своём брате Саше, преуспевающем программисте, который настолько разуверился в происходящем, что хотел это происходящее выдавить из себя петлёй. И о том, что когда-то давно на этом же балконе стояли Никиты родители, и папа говорил маме, что собирается покончить с собой. Его слова не разошлись с делом. Говоря это, Никита иногда нервно усмехался и матерился, чего обычно не делал. Немного помолчав, притихшим, чуть хрипловатым голосом он сказал, что не винит ни Прокофия, ни Сашу за этот их солипсизм, потому что не знает, сами ли мы, по своей гордыне, обесцениваем этот мир в собственных глазах, обесцвечиваем его до акварельной бледности, или же такой взгляд на вещи предопределён физиологией, генами. Но, говорил Никита, самого его, если он опять начинает чувствовать себя посторонним, возвращает к жизни одна мысль: жить страшно, тяжело, больно, но эта страшная, тяжёлая, болезненная жизнь – это всё, что нам светит, потому что свет для нас вообще есть только в пределах отмеренной нам киноленты мгновений. А кинолента рано или поздно всё равно оборвётся – этого ещё никто и никогда не избегал. Прокофий повернулась к Никите и спросила: «Всё это сон?» В холодном свете лампы над балконной дверью её лицо слегка сияло бледно-зелёным, как фосфор в темноте. «Да, – ответил Никита, – но и ты, и я, и всё вокруг – его часть».
Вскоре у Прокофия началась учёба, и они с Никитой стали видеться реже. Прокофий без особых трудностей втянулась в учебный процесс, иногда только перед своим мысленным взором, между формул, дат и определений, видя что-то светлое, сулящее хорошие выходные, и легонько, только кончиками рта, этому улыбаясь. Но Никиту, как бы он ни старался увлечь себя учёбой и творчеством, не оставляло чувство какой-то осиротелости и брошенности, словно он был куклой, которую забыли на дачном чердаке и уехали в новый учебный год. От этого чувства на душе было горько и тоскливо; гонимый им, Никита иногда вдруг, идя по улице, срывался на бег или вопил, подпевая игравшей в его наушниках музыке и пугливо озираясь, как бы его кто не услышал. Донимать Прокофия сообщениями или звонками Никите не позволяла гордость, поэтому единственным спасением для него было писать об этом чувстве плаксивые песенки и стишки.
Теперь Никита с Прокофием виделись только по субботам и, в редких случаях, в будни вечером. Но и эти встречи отравляло слишком долгое их ожидание: Никита обижался на Прокофия за страдания разлуки, боялся конца встречи и новых страданий, в этом страхе метался между всем, что они делали раньше, чтобы всё успеть, но затем, презрев себя за эти метания, как бы назло себе и в отместку Прокофию, забивался в угол и либо читал книгу, либо просто смотрел в стену. Если же ему предлагали остаться на ночь, он теперь отказывался, тоже как бы назло и в отместку, и, стоя, уже обутый и одетый, на пороге и обнимая на прощание Прокофия, он чувствовал в груди какой-то холод, будто обнимал не любимую девушку, а фонарный столб в морозную зимнюю ночь.
По воскресеньям у Прокофия были занятия в киноколледже. Там они смотрели кино, обсуждали его и, как говорил Евгений Андреевич, их преподаватель, парень с кудрявыми патлами, только окончивший ВГИК, учились «читать кинопоэзию». И к каждому занятию они снимали маленькие этюды на заданную тему. Почти все снимали нечто похожее на то, что можно было бы увидеть в фотогалерее простого обывателя, пытавшегося запечатлеть закат или ещё какую банальную красивость. Но Прокофий подходила к делу серьёзно: писала сценарий, делала раскадровки и за отведённые пару минут хронометража даже старалась рассказать какую-никакую историю. На тему «Жизнь за окном» она сняла настоящую короткометражку с Алёной в роли девочки, сидящей в своей комнате, переживающей панические атаки и видящей за окном какого-то человека в чёрном, который в конце оказывается ею самой. В этой работе уже читался узнаваемый стиль Прокофия: густые, вязкие цвета, зерно от высокой светочувствительности, сбивающийся фокус и лицо Алёны крупным планом, представленное во всём его подростковом естестве. Если поделки остальных Евгений Андреевич комментировал парой-тройкой предложений, то работу Прокофия он расхваливал полчаса, говоря о собственном киноязыке Прокофия и о её прекрасном чувстве кадра. А потом он попросил Прокофия остаться после занятий. У Евгения Андреевича были мягкие, смелые и горячие губы, и, в отличие Никитиных, над ними не было щекотавшихся усиков. И теперь Евгений Андреевич – конечно, только до и после занятий – был для неё просто Женей. Прокофий была девочкой воспитанной, из крепкой, уже отпраздновавшей серебряную свадьбу семьи, поэтому через несколько дней раздумий она написала Никите длиннющее сообщение, суть которого сводилась к тому, что ей очень жаль, но, кажется, им больше не по пути. Это произошло 20-го января, во время Никитиных институтских каникул. Никита, всё это время живший надеждой, что дачники, забывшие его на чердаке, вернутся за ним весной, понял, что они не приедут уже никогда. И что вечно будет эта темнота и этот холод мёртвого обесточенного дома, этот редкий случайный скрип половицы и ветер, воющий в печной трубе. Поняв это, Никита оделся, вышел на общий балкон и выпрыгнул с него. Он приземлился аккурат между подъездными клумбами и дорогими машинами, на выкрашенный красно-белыми полосами прямоугольник – место, где в случае пожара должна была встать пожарная машина. Он лежал лицом вверх и внешне был почти цел, потому что предусмотрительно туго, как мешок с мусором, стянул себя зимней одеждой. Только затылок под капюшоном куртки был сильно сплющен, левая нога вывернута, разорвалась диафрагма, и почти все внутренние органы, оторвавшись от своих креплений, лежали на дне его брюшины.
Несмотря на запрет родителей, Прокофий пришла на похороны. И, несмотря на запрет христианства на самоубийство, было отпевание – Никитины родственники смогли доказать церкви – разумеется, за отдельную плату, – что перед смертью Никита покаялся. Поскольку его увечья были почти незаметны – только лицо чуть отекло, – гроб открыли для прощаний. Прокофий подошла к нему. У Никиты были лиловые губы – такие же, как у того мужчины, лежавшего пару лет назад возле дома. И, как и у него, у Никиты было такое умиротворённое выражение, будто он летним днём наелся вкусных дачных ягод и теперь сладко спит где-нибудь на террасе. Все целовали Никиту в лоб, и только Прокофий поцеловала его в губы.
Мелководье
В субботу утром Никита проводил Прокофия до школы, где у той была олимпиада по русскому языку, а сам пошёл домой. Его тяготила большая нужда, но он старался идти как обычно, прогулочным шагом. Никите было стыдно сходить по-большому в гостях у Прокофия, но за этот стыд он презирал себя, так что, намеренно замедляя свой ход, он тем самым хотел внушить себе, что он вовсе и не хотел справить нужду в гостях и потому сейчас никуда не торопится. И в этом самовнушении Никита зашёл на почту, куда должны были доставить небольшой тираж его книги, который он перед этим заказал. У Никиты не было при себе паспорта и, взяв талон, он подошёл к свободному окошку, чтобы спросить, можно ли забрать посылку без паспорта. Сидевшая в окошке сухощавая женщина, с чёрными испорченными волосами, всегда в одном и том же белом, крупной вязи, свитере и шерстяном жилете, буркнула что-то неразборчивое и полезла зачем-то под стол. Через некоторое время Никита снова задал свой вопрос, уже не так уверенно, как в первый раз. «Нет, нельзя!» – гаркнула из-под стола сотрудница. Тогда Никита, промямлив какой-то бред вроде: «Я просто талон взял, он тогда аннулируется…», выбросил этот самый талон в мусорное ведро под окошком и вышел на улицу. Стыд неприятно щекотал Никитину шею и клокотал в груди, и, идя вдоль Волоколамского шоссе, Никита глубоко дышал, чтобы успокоиться.
Придя домой, Никита помыл руки, неспешно переоделся в пижаму и даже съел второй завтрак и только после этого пошёл в уборную.
Облегчившись, он стал искать в интернете статистику о сне. К воскресному занятию в киношколе Прокофию нужно было снять этюд, в котором бы художественно переосмысливался какой-нибудь сухой формальный текст – документ, список покупок, диалог из учебника по иностранному языку. Прокофий вспомнила об этом только в пятницу вечером, когда они с Никитой, наигравшись в «плейстейшн», сидели на кухне и пили чай. Им обоим было стыдно за столь бездарно потраченное время – ни Прокофий, ни Никита уже давно ни во что не играли, потому как игрой для них стала сама жизнь, – и сейчас каждый, прихлёбывая чай, объяснялся со своей совестью. Никита, готовый в тот момент взяться за любую работу, лишь бы не ковырять в голове, как дохлую птицу, три часа убитого времени, предложил Прокофию свою помощь в создании киноэтюда, и они вместе стали думать над выбором письменного первоисточника. А потом Никита, ничего не говоря, сходил в кладовку и вернулся оттуда с какой-то распечаткой. Это был акт из института судебной психиатрии имени Сербского, где Никитин папа, в юности ограбивший с друзьями чью-то квартиру, проходил освидетельствование на вменяемость. Никитина мама, только недавно показавшая сыну этот документ, запретила Никите даже просто рассказывать кому-то о нём, назвав это «позорищем», – но Никита, как и Прокофий, по-детски любил всякую чернуху, особенно ту, которой буквально сочилась история его семьи, видя в ней некое, хоть и мрачное, но основание собственной исключительности, – и сейчас Никита не смог удержаться от искушения в очередной раз завернуть эту семейную чернуху в художественный фантик.
Но только Никита начал читать документ, стыд стал словно бы сдавливать его шею двумя деревянными колодами: голос его становился всё глуше, а слова отпрыгивали от его взгляда, как лягушки – от колёс приближающейся машины. Но стыдился, вернее, смущался Никита не за себя и не за своего повёрнутого отца, а за Прокофия, точнее сказать, вместо неё, будучи уверенным, что она сейчас не находит себе места от смущения. Прервавшись посередине, Никита перевёл взгляд на Прокофия и сказал, что может не продолжать, если Прокофию тяжело это слушать. Прокофий легонько улыбнулась и с той же заботливой ноткой, как и в Никитином голосе, сказала, что, всё хорошо, но, если Никите самому тяжело, тогда действительно лучше остановиться. Никита не слишком поверил Прокофию – верить в то, что Прокофию безразлична трагедия Никитиной семьи ему совсем не хотелось, ибо для него, любителя привлечь внимание, это было бы ещё хуже, чем смущение, – но читать всё равно продолжил.
Моменты, где раскрывались обстоятельства преступления («испытуемый нанёс гр-ну К. удар по голове газовым пистолетом, в результате чего тот получил лёгкие телесные повреждения), Никита пропускал – стыдился, – зачитывая только психологическую характеристику («После смерти брата и последовавшей за ней смертью бабушки испытуемый стал замкнутым, у него нарушился эмоциональный контакт с матерью») и описания папиных галлюцинаций («Испытуемый отмечает, что временами он слышит «неопределённый шёпот», а перед засыпанием у него возникает в голове ощущение надвигающегося чёрного шара, который увеличивается в размере»). Не дойдя до конца распечатки, Никита посмотрел в глаза Прокофию, как стрелок смотрит через рассеявшийся дым на поражённую мишень, ища в них изумление. Но в них был, скорее, интерес ребёнка, впервые попавшего в Кунсткамеру.
Они с Никитой, освежив в кружках чай, стали подчёркивать нужные места в документе и переписывать их в заметку на планшете. Примерно через полчаса, ровно к одиннадцати вечера, у них был готов текст для закадрового голоса. По Никитиной идее, этот закадровый голос как бы вещал из будущего, тогда как на экране показывалось настоящее, обычный день из жизни подростка: он просыпается, делает работу по дому, встречается с друзьями, у одно из которых день рождения, они вместе гуляют, сидят у именинника в гостях, а вечером, возвратившись домой, главный герой находит своего брата висящим в петле в кладовке, что рушит его жизнь и приводит к тому, о чём написано в документе. Конечно, в жизни всё было не так, и смерть Никитиного дяди, если и повлияла на траекторию жизни его папы, то несущественно. Но ведь всегда есть соблазн увидеть причину всех бед в каком-то одном событии. Особенно когда ты творец и у тебя не так много бумаги или плёнки.
Покончив с текстом, Прокофий и Никита выдвинулись в сторону дома Прокофия – её родители уже ждали. И, пока они шли по ночным безлюдным улицам, Никита говорил о том, что, как ни странно, умение преподнести себя публике, заявить о себе не только помогает творцу набить карманы, но и самым благотворным образом влияет на его творчество, потому что всё это ставит творца лицом к лицу с его страхами и комплексами, которые бросают тень и на его творчество. Побеждая же все эти страхи и комплексы, творец как бы расправляет плечи, его голос обретает уверенность, и именно она, эта уверенность, и притягивает людей.
Голос же Никиты, когда они с Прокофием спустились в переход на Октябрьском Поле, пресёкся. Там, на холодной и грязной плитке, сидел седой дед с жёлтой, похожей на пивную пену бородой, в чёрной мешковатой одежде, слишком тёплой для начала ноября, видимо, с запасом на грядущую зиму, и протягивал пластиковый стаканчик, где лежало несколько монет. Попрошайки, юродивые и все прочие униженные и оскорблённые вызывали у Никиты сильнейшее смущение или, скорее, чувство стыда: ему становилось стыдно за свои проблемы, которые в свете их более, так сказать, осязаемых проблем виделись теперь Никите капризом изнеженного ребёнка, а его слова, о чём бы он ни говорил в этот момент, слышались ему изливанием этого детского каприза. Хотя, как догадывался Никита, всё могло быть намного проще, и он просто в очередной раз судил всех и всё по себе, как всё тот же ребёнок, которому кажется, что его плюшевый медвежонок замёрзнет, если его не накрыть одеялом. Только все стоящие в переходах медвежата, несмотря даже на суровые русские холода, должны были, в представлении Никиты, не замёрзнуть, а сгореть – сгореть от стыда. И не они, а он сам – окажись он на их месте.
Неизвестный, никому не нужный писатель, – продолжал после смущённого молчания Никита, когда они с Прокофием поднимались из перехода, – остаётся таковым, в первую очередь, потому, что он пишет, как неизвестный, никому не нужный писатель. Но, чтобы быть нужным людям, мало просто в них нуждаться. Нужно ими интересоваться. А что может быть полезнее для писателя, чем интерес к людям? Все великие писатели только тем и заинтересовали читателя, что сами интересовались им и, как следствие, знали, что ему нужно, что ему интересно. Вопреки всем «Багамам при жизни и памятникам в вечности» Никита не верил в непризнанных, непонятых гениев, видя в них тех, кто, задрав высоко нос, не удостоил вниманием землю под своими ногами, на что та ответила взаимностью. А затем, как и почти в любом другом своём монологе, Никита сослался на Пелевина, приблизительно воспроизведя его цитату: «Цены нынче такие, что нужно быть модным, а Нобель – может быть, а может и не быть». Последние метры до дома Прокофия Никита, уже совсем отвлёкшись от темы, говорил о пустотности нашего времени и о том, что осмыслять эту пустоту ежегодной книжкой под силу только признанному певцу пустоты Пелевину.
Уже дома Никита как-то особенно весело разговаривал с родителями Прокофия Ириной и Алексеем и в целом был в приподнятом настроении: осознание того, что за весь вечер они с Прокофием ни разу не увлеклись друг другом дальше объятий и что вместо любовных утех они занимались горними творческими делами, давало ему ощущение собственной чистоты или, вернее сказать, избавляло его от того вяжущего рот и сковывавшего движения стыда, который он обычно испытывал, приходя к Прокофию после их уединённых посиделок у него дома.
И даже когда все разошлись по комнатам и во всей квартире выключился свет, вместо того, чтобы начать свои тихие игры, Прокофий и Никита продолжили творить кино. Сначала думали над названием, перебрали несколько вариантов и остановились на «Испытуемом». Потом взялись за написание сценария. Освещённые одним только экраном планшета, Прокофий и Никита шёпотом обсуждали идеи и тут же записывали их в заметку, но после того, как засыпавшая в соседней комнате Алёна попросила их говорить потише, они стали переписываться в чате. И была какая-то особенная, робкая прелесть в том, что они, лёжа на одной кровати, обменивались сообщениями, слыша голос друг друга только у себя в голове.
Идея видеоряда строилась на постоянных параллелях между ним и тем, что зачитывал закадровый голос; страшные, больнично-холодные слова воплощались на экране в самых безобидных образах, что создавало эффектный контраст. Так, например, в момент, когда говорится про чёрный шар, надвигающийся на испытуемого перед засыпанием, главный герой надувает воздушный шар на дне рождения у друга.
Где-то в полчетвёртого Прокофий и Никита дописали сценарий – всё заканчивается в кладовке, на полу – перевёрнутая табуретка, рядом – записка, и за секунду перед темнотой в кадр попадают мыски раскачивающихся ног. Никита устало переполз с кровати Прокофия на примыкавшую к ней раскладушку, но, улёгшись, понял, что не заснёт. Истории о помешанных действовали на Никиту заразительно и, вероятно, по тому же принципу, по которому в психбольницах психический припадок одного по цепной реакции распространяется на других, Никита сейчас тоже чувствовал себя помешанным. Возбуждение скреблось у него в груди, а мысли, разогнавшись и будто бы слетев с каких-то креплений, почти ощутимо толкались в его голове. Никите казалось, что он на пределе, что он сейчас не выдержит, но чего именно он не выдержит, Никита не мог понять. Он знал только, что ему нужно отвлечься. И что лучше всего в этом помогает чтение. На ум тут же пришли «Записки сумасшедшего» Толстого, о которых недавно говорили на лекциях. Никита взял телефон, открыл «Литрес» скачал этот рассказ и стал читать. Описание арзамасского ужаса только ещё сильнее взвинтило Никиту, и он уже подумал, что зря начал читать этот рассказ. Но последовавшая за этим описанием эмоциональная разрядка (Толстой не купил пензенское имение, возвратился домой и зажил по-прежнему, теперь только начав ходить в церковь) успокоила Никиту, и вскоре он стал засыпать. Никита убедил себя в том, что всё произошедшее с ним – просто осадок от той самой семейной чернухи, который, как бы он это ни отрицал, всё же остался у него на душе в виде какой-то смеси стыда и скорби, и совсем скоро заснул.
Никита Королёв
Любовь и смерть – две стороны одной монеты. А на её ребре – страх, стыд, сомнения, но в конце концов – счастье. Встречайте сборник рассказов Никиты Королёва о его тёзке, познавшем любовь, смерть и всё, что между ними.
Никита Королёв
Жёванный сыр
Предупреждение
Все персонажи, равно как и события, происходящие с ними, являются плодом авторской воспалённой фантазии. Все совпадения же с реальной жизнью являются плодом вашей воспалённой фантазии.
Кукла
Её звали Прокофий, ей было пятнадцать, и она была мертва. Вообще-то её звали Женей, но, поскольку имена усопших остаются только на надгробиях и в воспоминаниях близких, она отказалась от этого имени и спросила новое у случайности. Генератор рандомных имён назвал её Прокофием Цветковым. Теперь сетевая общественность и окружавшие Женю люди звали её именно так.
Прокофий не знала, когда она умерла – у её смерти, в отличие смерти обыкновенной, физической, не было точной даты. Прокофий поняла, что умерла, когда училась в седьмом классе. Одним осенним вечером она возвращалась с занятий и возле дома, в торце, где стояли припаркованные машины, увидела труп, лежавший на мокром асфальте. Он был прикрыт чёрным полиэтиленом, но, странное дело, никого рядом не было. Как будто тело было плодом воображения Прокофия или чьим-то злым розыгрышем. Прокофий подошла к трупу поближе. Полиэтилен чуть отходил от тела у головы – наверное, сдуло ветром, – и Прокофий увидела лицо мужчины лет сорока, белое, ничего не выражавшее, с лиловыми губами. Она увидела и поняла, что ничего не чувствует: ни страха, ни грусти. Её даже не интересовало, что с ним случилось. Зато Прокофию понравились эти лиловые губы. Они выглядели так, будто этот мужчина умер, объевшись черники или смородины. Наконец вдали послышался вой сирены – не то скорой, не то полиции, – и Прокофий, нисколько не ускоряя шаг, пошла домой.
С восьмого класса Прокофий стала учиться на «отлично». Она сама не понимала, как это вышло: она просто обнаружила, что, сидя на уроках в школе или делая домашку, она больше не испытывает того томительного чувства, которое раньше заставляло её постоянно смотреть на часы или заглядывать в телефон. Она больше не надеялась на что-то большее, чем у неё было сейчас, и учёба – эти дискриминанты, синусы, косинусы, даты, имена, сложноподчинённые предложения, системы образов, реформы, зоны оптимума и пессимума, диффузия и закон Ома, определения общества и морали, тяжёлая промышленность Норильска – всё это стало как бы зерном, которое не давало жерновам её мозга размолоть самих себя.
Но и учёба не спасала Прокофия от ощущения ужасающей плоскости мира. Иногда, на короткое время, это ощущение сгущалось до того, что Прокофий начинала видеть мир как телепрограмму, включённую где-то посередине. И даже собственное тело становилось для неё чем-то чужим, ей неподконтрольным – вернее, оно будто просто переставало притворяться её телом. Хоть такие приступы «нереальности» и случались с Прокофием почти ежедневно, каждый раз это заставало её врасплох: если она говорила, то замолкала, если шла, то останавливалась, если думала о чём-то, то забывала о чём.
У Прокофия была сестра Алёна, старше неё на полтора года. И она была живее всех живых: постоянно улыбалась, смеялась, в минуты особенной радости припрыгивая и вереща, любила добрые истории, не любила злые, выдумывала свои языки, отдавала беднякам в переходах бутерброды, которые её давала мама в школу, ни на минуту не умолкала и могла подолгу говорить о чём-то понятном одной только ей. Алёна была счастливым ребёнком, и всё говорило о том, что она будет им всю жизнь. Вопрос о реальности происходящего для неё не стоял: жизнь даже в таком сером и угрюмом городе, как Москва, пестрела в её глазах ярче, чем у нейрофизиологов-шестидесятников.
Как это часто бывает, дети не смогли поделить поровну то, что дали им родители: насколько любила жизнь – а значит, и верила в неё – Алёна, настолько же не любила жизнь и не верила в неё Прокофий.
Но несмотря на замкнутый характер Прокофия, друзья у неё всё же были: одноклассница Маша и двое других ребят из школы – Монтэг и Никита. Маша была маленькой черноволосой оторвой, перепробовавшей к своим пятнадцати уже всё и со всеми. Она была из богатой семьи и жила в кирпичной высотке напротив школы. Возле лифта на её этаже стоял огромный плюшевый Гарфилд в королевской мантии, со скипетром в руках и короной на голове. Под этой короной Маша со своими маленькими любовниками прятала презервативы. Маша была для Прокофия тем чесноком, который единственно чувствуется во время насморка, грубым воздействием на воспалённую слизистую. У Прокофия не было ни денег, ни особого желания, чтобы вкушать все эти прелести жизни самой, но с Машей этого хотелось и это моглось. Впрочем, она ограничивалась только алкогольными дегустациями – давало о себе знать хорошее воспитание. Но и на этом они с Машей один раз сильно погорели, когда пухлый учитель истории застукал их в школьном туалете распивающими принесённую Машей настойку. Прокофия не особо интересовало, зачем историк зашёл в женский туалет, – она поняла только, что больше ей таких сгущений жизни на надо, и перестала общаться с Машей.
Двумя другими друзьями были Монтэг и Никита. И тот, и другой были довольно типичными обитателями тёмных комнат, освещённых одним только светом монитора. И у того, и у другого на этих мониторах сначала показывались всякие игрушки типа «доты» и «каэски», а потом – текстовые редакторы и разноцветные дорожки и ползунки звукорежиссерских программ. Оба они были немного музыкантами, немного поэтами, немного философами. И оба они нравились Прокофию. Но Никита нравился ей чуть больше, потому как и во всех этих «немного» он продвинулся чуть дальше Монтэга. Однако он был старше Прокофия почти на пять лет, а в их юном возрасте такая разница особенно заметна. Так что после двух лет тихой и мучительной симпатии, когда Никита, закончив одиннадцатый класс, поступил в Литинститут, Прокофий всё-таки его отпустила.
С Монтэгом (его на самом деле звали Даней, а Монтэг был его творческим псевдонимом) их разделяло всего три года разницы, но и с ним ничего не срослось – после объяснений выяснилось, что чувства не взаимны.
Вместе они формировали костяк их небольшой компании, которой они гуляли по окрестным паркам или выезжали в ближайшее Замкадье.
Одной из таких вылазок стало паломничество в Чертаново – к дому, где, как сообщали проныры с НТВ, был прописан и, возможно даже, временами жил Пелевин. Никто из ребят не знал, где точно расположен этот дом, – видели его только на кадрах новостного сюжета, за спиной у репортёра. Да и тот сюжет снимали зимой, тогда как сейчас была середина лета. Поэтому, высадившись в Чертаново, ребята пошли на зов своего тронутого экзистенциальным холодком сердца, и где-то после получаса ходьбы перед ними выросли три рыжих дома-колонны, те самые, которые были за спиной у репортёра.
Немного помявшись в ближайшем сквере, будто им было бы вполне достаточно посмотреть на тот-самый-дом издалека, ребята наконец направились к нему и, подойдя, сели на лавочку у подъезда. На их глазах в дом вошла какая-то девушка с петличкой на лацкане жакета, похожая на ведущую с какого-то провинциального новостного канала, и такого же провинциального вида парень, снимавший её на телефон. Вскоре они оба вышли, развёрнутые консьержем. Сочтя ребят за жителей дома, они попросили их впустить их в дом. Ребята ответили решительным отказом, сославшись на то, чтобы не могут брать на себя такую ответственность. Конечно, они просто не хотели выдавать себя перед такими же охотниками за Единственным и Неповторимым, как и они сами.
Когда горе-журналисты наконец ретировались, ребята осмелели и стали спрашивать всех проходивших мимо них – к подъезду или из него – людей, знают ли они что-нибудь про их великого соседа. Одни честно признавались, что и не знают, и шли дальше. Другие, очевидно, чтобы восполнить недостаток внимания, роняли на ходу что-то вроде «Да, живёт здесь такой» и тут же скрывались за подъездной дверью.
В один момент из дома вышла старушка с седыми войлочными волосами, в цветочном платье и села на скамейку напротив ребят. Никита на свою беду спросил и у неё про мифического жильца. Старушка, ответив, что Пелевин действительно здесь живёт, тут же спросила Никиту, не боится ли он «получить в рожу» от великого литератора. Ребята, переглянувшись, засмеялись. Только Прокофий молчала, изучая взглядом старушку. Она, заметив это, повернулась к Прокофию и сказала: «А ты что смотришь, кукла?» Воистину то был дом людей, умеющих подобрать правильное слово. Потому что Прокофий и вправду была не иначе, как куклой. Куклой, сидящей на высокой полке и смотрящей с той же равнодушной полуулыбкой на жизнь и на смерть, на счастье и на горе, на семейную идиллию и пытки военнопленных. Улыбку эту не стирала с её лица даже физическая или моральная боль: тогда только из её глаз, будто сами собой, начинали литься холодные, рефлекторные слёзы.
Сходство было и внешним: длинные ресницы, миниатюрный носик, тёмно-русые, чуть вьющиеся и всегда хорошо расчёсанные волосы, чистая, отливающая фарфоровым блеском кожа. Прокофий походила на куклу какого-то старого, скрывающего под своей скрупулёзностью душевную дыру коллекционера.
В девятом классе жизнь Прокофия резко и сильно сгустилась. Во-первых, Прокофий вдруг поняла, что хочет стать кинооператором, и пошла на подготовительные курсы при киноколледже №40. Во-вторых, Никита вдруг признался ей в любви. Это произошло осенью, во время их очередных домашних посиделок, участившихся после того, как теперь уже Алёна, впечатлившись летними встречами, пробовала свои силы в покорении Никитиного сердца. Они вместе гуляли, а по субботам она приходила к нему домой, и они работали над обложкой к его песне: Алёна рисовала, а Никита продумывал идею и направлял процесс в нужное русло. Прокофий знала, что инициатором всего этого была Алёна, но думала, что Алёнины чувства взаимны, и ждала момента, когда они уже возьмутся за руки.
Поэтому объяснение, которое произошло между ребятами ночью в спящей квартире, было для неё полной неожиданностью. Они, как всегда, разговаривали о чём-то отвлечённом – Алёна, – лёжа на своём диване, а Прокофий и Никита – сидя на приставленной к дивану раскладушке, которую специально для Никиты родители девочек привезли с дачи, – и вдруг Никита стал гладить Алёну по волосам. Он лишь хотел оказать ей, положившей голову на край его раскладушки, невинную дружескую ласку. Но в этой ласке был и тайный, низкий смысл. Таким образом Никита хотел как бы умалить – в глазах Прокофия и в своих собственных – значение этого действия до пустяка, вполне позволительного и для друзей, чтобы без лишних объяснений прикоснуться к Прокофию. И когда Никита почувствовал, что его совесть и моральный облик в безопасности, свободной рукой он притянул Прокофия (та как намагниченная прижалась к его груди) и стал гладить по волосам. Одна его рука, гладившая Алёну, была мягка и спокойна, а другая, гладившая Прокофия, тряслась и немела. И через некоторая время Алёна, видимо, почувствовав эту разницу напряжений (человек феноменальной чуткости и интуиции, она была как антенна, которая принимала даже больше, чем могла понять), отстранилась, переложила голову на подушку и тихо проговорила: «Нет, я не могу так». Никита, перестав гладить и Прокофия, спросил, как «так», будто бы сам не понимал. Алёна сказала: «Когда всех сразу. Ты уж определись». На какое-то время все и всё как будто замерло. А потом Никита, раскаявшись в этой своей подлой лжи, отодвинулся от Прокофия (её тоже вмиг как отмагнитило от Никиты), сказал: «Да, я понимаю, о чём ты, это неправильно» и как будто куда-то засобирался. Но после этого он ещё долго сидел на раскладушке, смотря обречённо в пол и нервно теребя только отпущенную, ещё короткую бороду. А затем, наконец решившись, он спросил Алёну тонким от напряжения голосом, довольна ли она их дружбой, хотелось бы ей что-то поменять. На второй вопрос Алёна ответила утвердительно, но, когда Никита спросил, что? именно ей хотелось бы поменять, она смущённо усмехнулась и сказала: «Ты знаешь». «Да, я знаю, – ответил Никита, – но я не могу тебе этого дать, я не испытываю этого к тебе». Алёна сказала, что догадывалась об этом и что была к этому готова. И ещё, что Никите не за что извиняться и что она легко сможет «отсечь всё лишнее». Никита верил в это, понимая, что несчастная, неразделённая любовь – неотъемлемый, как мешки под глазами, признак всех несчастных людей, к которым Алёна явно не относилась, но ему всё равно было тяжело. Потому что вторая, главная часть этого объяснения ещё ожидала впереди. И, снова собравшись с мыслями, Никита к ней приступил. Как-то мрачно, даже как будто презрительно посмеиваясь, он сказал, что с недавних пор стал испытывать к Прокофию «обыкновенную симпатию» – проще говоря, влюбился. И что он бы смолчал и тут же бы, объяснившись с Алёной, ушёл, но он подумал, что, если вдруг его чувства к Прокофию взаимны, было бы неправильно лишать себя счастья любви.
Прокофий, сидящая, прислонившись к стене, на Алёнином диване, сказала, что тоже питает чувства к Никите. По инерции былой симпатии она действительно так думала. Ей до сих пор нравились его серые, всегда как будто овеянные мечтательной дрёмой глаза, широкий, хоть и прыщеватый, лоб и красивые жилистые руки. Когда с объяснениями было покончено, Никита стал собираться – на этот раз уже по-настоящему. Он не понимал, как себя вести после всего произошедшего, – в кино обычно за такими моментами сразу же следует монтажная склейка, после которой героев, уже как пару, показывают занимающимися какими-то будничными делами. И Никита, смущаясь наступившего в комнате затишья, торопливо собирался домой – чтобы в следующий раз встретиться уже как пара. Но перед тем, как Никита ушёл, они с Прокофием, стоя в тёмной прихожей, поцеловались. У Никиты были тонкие, с щекотавшимися над ними усиками, губы, но это было терпимо.
Родителей, уже приписывавших Никиту Алёне, потряс такой поворот. Но они не могли ничего сделать с тем, что Алёнино жизнелюбие было чуждо Никите: он хоть и не был ещё мёртв, но уже долгое время бился в предсмертных конвульсиях, видя в этих конвульсиях свою жизненную борьбу и делая из своих воплей и стонов разные поделки: песни, стихи, рассказы. А, посмотрев на прибавившую в женственности Прокофия, он понял, что его миссия – спасти её, воскресить и через это благодеяние воскреснуть самому. За этим пасхальным пафосом Никита не смог распознать своих истинных желаний, точнее, только одного, детского желания – поиграть в куклы.
У девочек в то время были школьные каникулы, так что они сидели дома у Прокофия и Алёны, кружка за кружкой пили чай, разговаривали, пели под гитару и слушали Никитины пары, которые уже два года проходили в его загнивающем институте дистанционно. Иногда ходили гулять, но, куда бы они ни пошли, всегда ноги выводили их к треклятому парку Стрешнево.
Никита почти каждый день оставался у девочек ночевать. Никто из родителей не был против: маме Ирине их посиделки напоминали её собственные, из молодости, с такими же песнями под гитару и разговорами о жизни, так что она только радовалась происходящему, освежая ребятам чай и снимая их наиболее удачные музыкальные номера; Алексею же, отцу семейства, которому в скором времени должен был «стукнуть полтинник», сейчас как нельзя кстати пришлись Никитины пространные размышления о жизни.
С той самой ночи Прокофий спала вместе с Алёной на диване – разумеется, ближе к краю, где стояла Никитина раскладушка, – и, когда выключался свет, они с Никитой, выждав немного, начинали игру. Играть можно было только руками и губами, за нарушение этого правила – укоризненный скрип раскладушки. Игровое поле – руки, лицо, волосы и всё, что выглядывает из-под мучительно длинных пижам. Но даже на этом тесном пятачке они смогли устроить настоящий «Диснейленд», заботясь только о том, чтобы чмоканья их губ не разбудили спавшую рядом Алёну.
Сначала Никита брал нежными полукасаниями, несущими свой невыносимо лёгкий шлейф по границе дозволенного. А потом, не то по аккуратной наводке Прокофия, не то сам, интуитивно, Никита понял, что ей нравится пожёстче. И когда он смотрел, как в рассыпчатой темноте под его руками сжимается ещё совсем детская шейка Прокофия, когда слышал её тяжелое от удовольствия и удушья дыхание, он настолько поражался видимому и слышимому, что забывал моргать, пока на его глазах не проступали слёзы. Но понемногу он вошёл во вкус, и их игры превратились в сплошное наказание: удушение, оттягивание волос, большой палец, властно водящий по пухлым губам и вдавливающий их в маленькие сахарные зубки. А затем к этому прибавились ещё наказания не-наказанием, когда рука, уже обхватившая шею почти до мочек или уже забравшая волосы у самых корней, вдруг меняла свои планы и скользила дальше. А утром снова велись многословные разговоры, звучали песни и смех, так что казалось, что эти двое, молчащие и играющие, – какие-то другие люди или куклы, ожившие, на радость ребёнку или к его ужасу, в темноте.
Никита, размышляя о грубом характере их ночных игр, объяснял себе его пылом страсти, толкавшемся в тесном стойле данного родителям обета целомудрия. На самом же деле Прокофий просто хотела что-то почувствовать: её тело, внешне мягкое, как августовский персик, внутри самой Прокофием ощущалось как холодный фарфор.
Как-то Прокофий и Никита, записав у него дома песню, вышли на общий балкон. Вид с 28-го этажа был красив: чернеющая в ночи мозаика города, небо, как будто залитое черничным йогуртом. Но красота эта нисколько не трогала ни Прокофия, ни Никиту, словно бы не проникая глубже сетчатки их глаз. Они пытались её уловить, пытались откликнуться на этот громогласный призыв к восторгу, как дети, подведённые родителями за ручку к «Моне Лизе», но, чем пристальнее они вглядывались, тем больше городской пейзаж распадался на отдельные детальки какого-то дешёвого, воняющего китайским заводом конструктора. Наконец Прокофий прервала молчание, сказав, что ей кажется, будто катящиеся внизу машинки, скрываясь за домами, исчезают или что их там разворачивают и пускают в обратную сторону. Тогда Никита, глубоко вздохнув, начал свои длинные рассуждения о синдроме дереализации, о его физиологической и духовной сторонах, поведал о своём брате Саше, преуспевающем программисте, который настолько разуверился в происходящем, что хотел это происходящее выдавить из себя петлёй. И о том, что когда-то давно на этом же балконе стояли Никиты родители, и папа говорил маме, что собирается покончить с собой. Его слова не разошлись с делом. Говоря это, Никита иногда нервно усмехался и матерился, чего обычно не делал. Немного помолчав, притихшим, чуть хрипловатым голосом он сказал, что не винит ни Прокофия, ни Сашу за этот их солипсизм, потому что не знает, сами ли мы, по своей гордыне, обесцениваем этот мир в собственных глазах, обесцвечиваем его до акварельной бледности, или же такой взгляд на вещи предопределён физиологией, генами. Но, говорил Никита, самого его, если он опять начинает чувствовать себя посторонним, возвращает к жизни одна мысль: жить страшно, тяжело, больно, но эта страшная, тяжёлая, болезненная жизнь – это всё, что нам светит, потому что свет для нас вообще есть только в пределах отмеренной нам киноленты мгновений. А кинолента рано или поздно всё равно оборвётся – этого ещё никто и никогда не избегал. Прокофий повернулась к Никите и спросила: «Всё это сон?» В холодном свете лампы над балконной дверью её лицо слегка сияло бледно-зелёным, как фосфор в темноте. «Да, – ответил Никита, – но и ты, и я, и всё вокруг – его часть».
Вскоре у Прокофия началась учёба, и они с Никитой стали видеться реже. Прокофий без особых трудностей втянулась в учебный процесс, иногда только перед своим мысленным взором, между формул, дат и определений, видя что-то светлое, сулящее хорошие выходные, и легонько, только кончиками рта, этому улыбаясь. Но Никиту, как бы он ни старался увлечь себя учёбой и творчеством, не оставляло чувство какой-то осиротелости и брошенности, словно он был куклой, которую забыли на дачном чердаке и уехали в новый учебный год. От этого чувства на душе было горько и тоскливо; гонимый им, Никита иногда вдруг, идя по улице, срывался на бег или вопил, подпевая игравшей в его наушниках музыке и пугливо озираясь, как бы его кто не услышал. Донимать Прокофия сообщениями или звонками Никите не позволяла гордость, поэтому единственным спасением для него было писать об этом чувстве плаксивые песенки и стишки.
Теперь Никита с Прокофием виделись только по субботам и, в редких случаях, в будни вечером. Но и эти встречи отравляло слишком долгое их ожидание: Никита обижался на Прокофия за страдания разлуки, боялся конца встречи и новых страданий, в этом страхе метался между всем, что они делали раньше, чтобы всё успеть, но затем, презрев себя за эти метания, как бы назло себе и в отместку Прокофию, забивался в угол и либо читал книгу, либо просто смотрел в стену. Если же ему предлагали остаться на ночь, он теперь отказывался, тоже как бы назло и в отместку, и, стоя, уже обутый и одетый, на пороге и обнимая на прощание Прокофия, он чувствовал в груди какой-то холод, будто обнимал не любимую девушку, а фонарный столб в морозную зимнюю ночь.
По воскресеньям у Прокофия были занятия в киноколледже. Там они смотрели кино, обсуждали его и, как говорил Евгений Андреевич, их преподаватель, парень с кудрявыми патлами, только окончивший ВГИК, учились «читать кинопоэзию». И к каждому занятию они снимали маленькие этюды на заданную тему. Почти все снимали нечто похожее на то, что можно было бы увидеть в фотогалерее простого обывателя, пытавшегося запечатлеть закат или ещё какую банальную красивость. Но Прокофий подходила к делу серьёзно: писала сценарий, делала раскадровки и за отведённые пару минут хронометража даже старалась рассказать какую-никакую историю. На тему «Жизнь за окном» она сняла настоящую короткометражку с Алёной в роли девочки, сидящей в своей комнате, переживающей панические атаки и видящей за окном какого-то человека в чёрном, который в конце оказывается ею самой. В этой работе уже читался узнаваемый стиль Прокофия: густые, вязкие цвета, зерно от высокой светочувствительности, сбивающийся фокус и лицо Алёны крупным планом, представленное во всём его подростковом естестве. Если поделки остальных Евгений Андреевич комментировал парой-тройкой предложений, то работу Прокофия он расхваливал полчаса, говоря о собственном киноязыке Прокофия и о её прекрасном чувстве кадра. А потом он попросил Прокофия остаться после занятий. У Евгения Андреевича были мягкие, смелые и горячие губы, и, в отличие Никитиных, над ними не было щекотавшихся усиков. И теперь Евгений Андреевич – конечно, только до и после занятий – был для неё просто Женей. Прокофий была девочкой воспитанной, из крепкой, уже отпраздновавшей серебряную свадьбу семьи, поэтому через несколько дней раздумий она написала Никите длиннющее сообщение, суть которого сводилась к тому, что ей очень жаль, но, кажется, им больше не по пути. Это произошло 20-го января, во время Никитиных институтских каникул. Никита, всё это время живший надеждой, что дачники, забывшие его на чердаке, вернутся за ним весной, понял, что они не приедут уже никогда. И что вечно будет эта темнота и этот холод мёртвого обесточенного дома, этот редкий случайный скрип половицы и ветер, воющий в печной трубе. Поняв это, Никита оделся, вышел на общий балкон и выпрыгнул с него. Он приземлился аккурат между подъездными клумбами и дорогими машинами, на выкрашенный красно-белыми полосами прямоугольник – место, где в случае пожара должна была встать пожарная машина. Он лежал лицом вверх и внешне был почти цел, потому что предусмотрительно туго, как мешок с мусором, стянул себя зимней одеждой. Только затылок под капюшоном куртки был сильно сплющен, левая нога вывернута, разорвалась диафрагма, и почти все внутренние органы, оторвавшись от своих креплений, лежали на дне его брюшины.
Несмотря на запрет родителей, Прокофий пришла на похороны. И, несмотря на запрет христианства на самоубийство, было отпевание – Никитины родственники смогли доказать церкви – разумеется, за отдельную плату, – что перед смертью Никита покаялся. Поскольку его увечья были почти незаметны – только лицо чуть отекло, – гроб открыли для прощаний. Прокофий подошла к нему. У Никиты были лиловые губы – такие же, как у того мужчины, лежавшего пару лет назад возле дома. И, как и у него, у Никиты было такое умиротворённое выражение, будто он летним днём наелся вкусных дачных ягод и теперь сладко спит где-нибудь на террасе. Все целовали Никиту в лоб, и только Прокофий поцеловала его в губы.
Мелководье
В субботу утром Никита проводил Прокофия до школы, где у той была олимпиада по русскому языку, а сам пошёл домой. Его тяготила большая нужда, но он старался идти как обычно, прогулочным шагом. Никите было стыдно сходить по-большому в гостях у Прокофия, но за этот стыд он презирал себя, так что, намеренно замедляя свой ход, он тем самым хотел внушить себе, что он вовсе и не хотел справить нужду в гостях и потому сейчас никуда не торопится. И в этом самовнушении Никита зашёл на почту, куда должны были доставить небольшой тираж его книги, который он перед этим заказал. У Никиты не было при себе паспорта и, взяв талон, он подошёл к свободному окошку, чтобы спросить, можно ли забрать посылку без паспорта. Сидевшая в окошке сухощавая женщина, с чёрными испорченными волосами, всегда в одном и том же белом, крупной вязи, свитере и шерстяном жилете, буркнула что-то неразборчивое и полезла зачем-то под стол. Через некоторое время Никита снова задал свой вопрос, уже не так уверенно, как в первый раз. «Нет, нельзя!» – гаркнула из-под стола сотрудница. Тогда Никита, промямлив какой-то бред вроде: «Я просто талон взял, он тогда аннулируется…», выбросил этот самый талон в мусорное ведро под окошком и вышел на улицу. Стыд неприятно щекотал Никитину шею и клокотал в груди, и, идя вдоль Волоколамского шоссе, Никита глубоко дышал, чтобы успокоиться.
Придя домой, Никита помыл руки, неспешно переоделся в пижаму и даже съел второй завтрак и только после этого пошёл в уборную.
Облегчившись, он стал искать в интернете статистику о сне. К воскресному занятию в киношколе Прокофию нужно было снять этюд, в котором бы художественно переосмысливался какой-нибудь сухой формальный текст – документ, список покупок, диалог из учебника по иностранному языку. Прокофий вспомнила об этом только в пятницу вечером, когда они с Никитой, наигравшись в «плейстейшн», сидели на кухне и пили чай. Им обоим было стыдно за столь бездарно потраченное время – ни Прокофий, ни Никита уже давно ни во что не играли, потому как игрой для них стала сама жизнь, – и сейчас каждый, прихлёбывая чай, объяснялся со своей совестью. Никита, готовый в тот момент взяться за любую работу, лишь бы не ковырять в голове, как дохлую птицу, три часа убитого времени, предложил Прокофию свою помощь в создании киноэтюда, и они вместе стали думать над выбором письменного первоисточника. А потом Никита, ничего не говоря, сходил в кладовку и вернулся оттуда с какой-то распечаткой. Это был акт из института судебной психиатрии имени Сербского, где Никитин папа, в юности ограбивший с друзьями чью-то квартиру, проходил освидетельствование на вменяемость. Никитина мама, только недавно показавшая сыну этот документ, запретила Никите даже просто рассказывать кому-то о нём, назвав это «позорищем», – но Никита, как и Прокофий, по-детски любил всякую чернуху, особенно ту, которой буквально сочилась история его семьи, видя в ней некое, хоть и мрачное, но основание собственной исключительности, – и сейчас Никита не смог удержаться от искушения в очередной раз завернуть эту семейную чернуху в художественный фантик.
Но только Никита начал читать документ, стыд стал словно бы сдавливать его шею двумя деревянными колодами: голос его становился всё глуше, а слова отпрыгивали от его взгляда, как лягушки – от колёс приближающейся машины. Но стыдился, вернее, смущался Никита не за себя и не за своего повёрнутого отца, а за Прокофия, точнее сказать, вместо неё, будучи уверенным, что она сейчас не находит себе места от смущения. Прервавшись посередине, Никита перевёл взгляд на Прокофия и сказал, что может не продолжать, если Прокофию тяжело это слушать. Прокофий легонько улыбнулась и с той же заботливой ноткой, как и в Никитином голосе, сказала, что, всё хорошо, но, если Никите самому тяжело, тогда действительно лучше остановиться. Никита не слишком поверил Прокофию – верить в то, что Прокофию безразлична трагедия Никитиной семьи ему совсем не хотелось, ибо для него, любителя привлечь внимание, это было бы ещё хуже, чем смущение, – но читать всё равно продолжил.
Моменты, где раскрывались обстоятельства преступления («испытуемый нанёс гр-ну К. удар по голове газовым пистолетом, в результате чего тот получил лёгкие телесные повреждения), Никита пропускал – стыдился, – зачитывая только психологическую характеристику («После смерти брата и последовавшей за ней смертью бабушки испытуемый стал замкнутым, у него нарушился эмоциональный контакт с матерью») и описания папиных галлюцинаций («Испытуемый отмечает, что временами он слышит «неопределённый шёпот», а перед засыпанием у него возникает в голове ощущение надвигающегося чёрного шара, который увеличивается в размере»). Не дойдя до конца распечатки, Никита посмотрел в глаза Прокофию, как стрелок смотрит через рассеявшийся дым на поражённую мишень, ища в них изумление. Но в них был, скорее, интерес ребёнка, впервые попавшего в Кунсткамеру.
Они с Никитой, освежив в кружках чай, стали подчёркивать нужные места в документе и переписывать их в заметку на планшете. Примерно через полчаса, ровно к одиннадцати вечера, у них был готов текст для закадрового голоса. По Никитиной идее, этот закадровый голос как бы вещал из будущего, тогда как на экране показывалось настоящее, обычный день из жизни подростка: он просыпается, делает работу по дому, встречается с друзьями, у одно из которых день рождения, они вместе гуляют, сидят у именинника в гостях, а вечером, возвратившись домой, главный герой находит своего брата висящим в петле в кладовке, что рушит его жизнь и приводит к тому, о чём написано в документе. Конечно, в жизни всё было не так, и смерть Никитиного дяди, если и повлияла на траекторию жизни его папы, то несущественно. Но ведь всегда есть соблазн увидеть причину всех бед в каком-то одном событии. Особенно когда ты творец и у тебя не так много бумаги или плёнки.
Покончив с текстом, Прокофий и Никита выдвинулись в сторону дома Прокофия – её родители уже ждали. И, пока они шли по ночным безлюдным улицам, Никита говорил о том, что, как ни странно, умение преподнести себя публике, заявить о себе не только помогает творцу набить карманы, но и самым благотворным образом влияет на его творчество, потому что всё это ставит творца лицом к лицу с его страхами и комплексами, которые бросают тень и на его творчество. Побеждая же все эти страхи и комплексы, творец как бы расправляет плечи, его голос обретает уверенность, и именно она, эта уверенность, и притягивает людей.
Голос же Никиты, когда они с Прокофием спустились в переход на Октябрьском Поле, пресёкся. Там, на холодной и грязной плитке, сидел седой дед с жёлтой, похожей на пивную пену бородой, в чёрной мешковатой одежде, слишком тёплой для начала ноября, видимо, с запасом на грядущую зиму, и протягивал пластиковый стаканчик, где лежало несколько монет. Попрошайки, юродивые и все прочие униженные и оскорблённые вызывали у Никиты сильнейшее смущение или, скорее, чувство стыда: ему становилось стыдно за свои проблемы, которые в свете их более, так сказать, осязаемых проблем виделись теперь Никите капризом изнеженного ребёнка, а его слова, о чём бы он ни говорил в этот момент, слышались ему изливанием этого детского каприза. Хотя, как догадывался Никита, всё могло быть намного проще, и он просто в очередной раз судил всех и всё по себе, как всё тот же ребёнок, которому кажется, что его плюшевый медвежонок замёрзнет, если его не накрыть одеялом. Только все стоящие в переходах медвежата, несмотря даже на суровые русские холода, должны были, в представлении Никиты, не замёрзнуть, а сгореть – сгореть от стыда. И не они, а он сам – окажись он на их месте.
Неизвестный, никому не нужный писатель, – продолжал после смущённого молчания Никита, когда они с Прокофием поднимались из перехода, – остаётся таковым, в первую очередь, потому, что он пишет, как неизвестный, никому не нужный писатель. Но, чтобы быть нужным людям, мало просто в них нуждаться. Нужно ими интересоваться. А что может быть полезнее для писателя, чем интерес к людям? Все великие писатели только тем и заинтересовали читателя, что сами интересовались им и, как следствие, знали, что ему нужно, что ему интересно. Вопреки всем «Багамам при жизни и памятникам в вечности» Никита не верил в непризнанных, непонятых гениев, видя в них тех, кто, задрав высоко нос, не удостоил вниманием землю под своими ногами, на что та ответила взаимностью. А затем, как и почти в любом другом своём монологе, Никита сослался на Пелевина, приблизительно воспроизведя его цитату: «Цены нынче такие, что нужно быть модным, а Нобель – может быть, а может и не быть». Последние метры до дома Прокофия Никита, уже совсем отвлёкшись от темы, говорил о пустотности нашего времени и о том, что осмыслять эту пустоту ежегодной книжкой под силу только признанному певцу пустоты Пелевину.
Уже дома Никита как-то особенно весело разговаривал с родителями Прокофия Ириной и Алексеем и в целом был в приподнятом настроении: осознание того, что за весь вечер они с Прокофием ни разу не увлеклись друг другом дальше объятий и что вместо любовных утех они занимались горними творческими делами, давало ему ощущение собственной чистоты или, вернее сказать, избавляло его от того вяжущего рот и сковывавшего движения стыда, который он обычно испытывал, приходя к Прокофию после их уединённых посиделок у него дома.
И даже когда все разошлись по комнатам и во всей квартире выключился свет, вместо того, чтобы начать свои тихие игры, Прокофий и Никита продолжили творить кино. Сначала думали над названием, перебрали несколько вариантов и остановились на «Испытуемом». Потом взялись за написание сценария. Освещённые одним только экраном планшета, Прокофий и Никита шёпотом обсуждали идеи и тут же записывали их в заметку, но после того, как засыпавшая в соседней комнате Алёна попросила их говорить потише, они стали переписываться в чате. И была какая-то особенная, робкая прелесть в том, что они, лёжа на одной кровати, обменивались сообщениями, слыша голос друг друга только у себя в голове.
Идея видеоряда строилась на постоянных параллелях между ним и тем, что зачитывал закадровый голос; страшные, больнично-холодные слова воплощались на экране в самых безобидных образах, что создавало эффектный контраст. Так, например, в момент, когда говорится про чёрный шар, надвигающийся на испытуемого перед засыпанием, главный герой надувает воздушный шар на дне рождения у друга.
Где-то в полчетвёртого Прокофий и Никита дописали сценарий – всё заканчивается в кладовке, на полу – перевёрнутая табуретка, рядом – записка, и за секунду перед темнотой в кадр попадают мыски раскачивающихся ног. Никита устало переполз с кровати Прокофия на примыкавшую к ней раскладушку, но, улёгшись, понял, что не заснёт. Истории о помешанных действовали на Никиту заразительно и, вероятно, по тому же принципу, по которому в психбольницах психический припадок одного по цепной реакции распространяется на других, Никита сейчас тоже чувствовал себя помешанным. Возбуждение скреблось у него в груди, а мысли, разогнавшись и будто бы слетев с каких-то креплений, почти ощутимо толкались в его голове. Никите казалось, что он на пределе, что он сейчас не выдержит, но чего именно он не выдержит, Никита не мог понять. Он знал только, что ему нужно отвлечься. И что лучше всего в этом помогает чтение. На ум тут же пришли «Записки сумасшедшего» Толстого, о которых недавно говорили на лекциях. Никита взял телефон, открыл «Литрес» скачал этот рассказ и стал читать. Описание арзамасского ужаса только ещё сильнее взвинтило Никиту, и он уже подумал, что зря начал читать этот рассказ. Но последовавшая за этим описанием эмоциональная разрядка (Толстой не купил пензенское имение, возвратился домой и зажил по-прежнему, теперь только начав ходить в церковь) успокоила Никиту, и вскоре он стал засыпать. Никита убедил себя в том, что всё произошедшее с ним – просто осадок от той самой семейной чернухи, который, как бы он это ни отрицал, всё же остался у него на душе в виде какой-то смеси стыда и скорби, и совсем скоро заснул.
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0