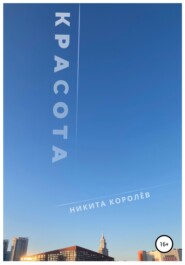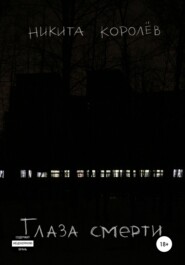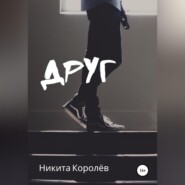По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жёванный сыр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долго сижу в подъезде, на белом кожаном диване, читаю. «Среди паломников Ясной Поляны были и одинокие духовные искатели; и серьёзные религиозные сектанты, преследовавшиеся властями…» Одинокий духовный искатель. Молниеносно в голове рождается его образ: человек в шароварах и лёгкой льняной рубахе, с изогнутым посохом в руке, а за ним – его история, как он, сбегая от мирских проблем, приезжает к Толстому в Ясную Поляну, но не застаёт его там, потому что он тоже сбежал – на дворе 28-го октября 1910-го. Глубоко, нравоучительно. Но писать не хочется – скучно. К тому же, ещё старое не закончил. Читаю дальше. Становится лучше, набираюсь сил, захожу в лифт. Но уже в квартире, только зашёл и включил свет, размышляю вслух, зарезаться ли в ванне или выпрыгнуть из окна. В гардеробке можно протянуть верёвку над вентиляционной трубой. Нет, понимаю, что ничего с собой не сделаю – слишком строго себе это запретил, совестно перед близкими. Хочу снова пойти на улицу, но слишком устал. Тихо, мертвенно тихо. Не раздеваясь, иду на кухню, грею себе старый, слипшийся кирпичом кус-кус, заливаю молоком, присыпаю хлопьями, добавляю топлёного масла, толку ложкой, ем. Вкусно, чуть успокаиваюсь. Смотрю билеты в Турцию, есть за 6 тысяч через 3 дня, осталось 3 билета, решаю брать, но представляю нуютные, со сверкающими гранитными полами, помещения аэропорта, безжизненный голос, делающий объявления, холодные металлические сидушки в зале ожидания, поездку в промёрзлом от долгого стояния с открытыми дверьми автобусе до самолёта, запах топлива, – и преждевременно накатывает дорожная тоска. Решаю отдохнуть, посмотреть кино, перед этим почитать. Читаю увлечённо, иногда ухмыляюсь, сравнивая себя с Толстым. Пишет Прокофий, спрашивает, всё ли у меня в порядке. Вдруг пропадают страх и вина, которые раньше сдерживали, и выкладываю всё как есть – мы не сходимся, я ничего не чувствую, отношения не для меня, любовь – это рубеж, дальше которого я просто не могу вовлечься в жизнь, всё это время я жил как в кошмаре. Пока пишу, время переваливает за 12 часов, наступает 27-е число, ровно 3 месяца, как мы встречаемся. Думаю, закончим всё сегодня для ровного счёта, и ухмыляюсь. Самому же страшно и холодно от своих слов, хожу по квартире, как по краю обрыва, думаю, отправить или стереть сообщение. Решаю стереть, на всякий случай копирую в заметки, но вдруг вспоминаю эту тесную, как хоббитова нора, квартирку Прокофия на первом этаже, как бы кричащую, что в ней живёт дизайнер интерьеров, это вечное журчание аквариума в прихожей, эти горшки с растениями повсюду и три кошки, вечно их сваливающие; эти ветхие, источающие вечность книги на полках и в стеллажах, эти старинные, в громоздких рамах, портреты в Алёниной комнате, сама Алёна, вечно сидящая, растёкшись по дивану, с распечатками и учебниками, сгиб её пухлого бедра в извечных серо-бирюзовых лосинах, мама Ирина с вечно блаженной улыбкой на лице, её каркающий смех из-за стены, вечно заводной папа Алексей с тенями какой-то алкогольной грусти под глазами – и наконец Прокофий, бледная, кукольная, как будто в вечной ломке по кофе, – вспоминаю всё это, решаюсь и отправляю сообщение. Хладнокровное спокойствие. Снова берусь за книгу. Ответ приходит нескоро. Прокофию больно, она не может поверить, что я всё это время лгал ей и себе, когда улыбался и делал что-то хорошее, она надеется остаться в книге моей жизни, пусть даже не на первом плане. Читаю, и в груди всё замирает, как при свободном падении, потом на секунду охватывает мерзкая садистская радость, затем к горлу подкатывает горечь и наконец злоба за это её смирение, за то, что она так просто даёт мне всё сломать. Но теперь даже как будто спокойнее и свободнее. Кажется, что жизнь налаживается. Беру с полки паспорта, обычный и загран, сажусь в гостиной, чтобы взять билет до Турции. Осталось две штуки. Звоню маме, чтобы посоветоваться, она радуется, что я прилечу. Пока говорили, захотелось в туалет, а пока сидел в туалете, опять передумал лететь. Решил испытать этот желание временем – если завтра ещё буду хотеть, тогда куда-нибудь поеду. Вышел из туалета, сел на диван в гостиной и продолжил читать. Просидел так до ночи, забыл даже про кино. Почти в два ночи снова написала Прокофий: «А может, чувства, в которых сомневаешься, это и есть настоящие чувства?» Ответил удивительно для себя сухо, следующим сообщением написал, что пойду спать. Пожелали друг другу спокойной ночи. Вдогонку написала, что любит меня. Ответил, что тоже её люблю.
Проснулся в 6:45, как бы ошпаренный мыслью: «Что я наделал?» Но тревога постепенно сменилась тихим отчаянием, и скоро я снова заснул.
Проснулся окончательно через несколько часов – во сколько именно, не знаю, намеренно не смотрел на часы, – и уже со спокойным сознанием совершённого. Встал, позавтракал. Решительно не знал, чем себя занять – мысли об обыденных делах особенно тяготили. Точно, поеду в Ясную Поляну. Ободрённый этой идеей, сходил в душ, хорошенько вымылся, покидал в рюкзак вещи (зарядку для телефона, книгу, планшет, очки, печенье, два яблока и банан), оделся и, уже стоя на пороге, посмотрел, как добраться до Ясной Поляны. Сначала до Тулы, на автобусе или на поезде, а от Московского вокзала на троллейбусе или маршрутке. До Тулы решил добраться на автобусе, чтобы не повторяться – два года назад так же спонтанно уехал в Тулу, но тогда – с Курского вокзала. Автостанция в Орехово, от Сокола по прямой.
На улице свежо, морозный воздух как-то особенно чист, дышу с наслаждением. Иду спокойно, рассчитывая успеть на автобус в 14:15. Всю поездку в метро читал, иногда только поглядывая в окно и слушая голос, объявляющий станции, чтобы не пропустить свою.
В Орехово, приятно потянувшись, выхожу из вагона, поднимаюсь из метро и иду снова на вход – там, помимо кассы метро, ещё касса автовокзала. Дежурный, молодой чернявый парень, ломанным языком объясняет, что касса ненадолго закрылась. Смотрю расписание на стене – рейса на 14:15 нет, нет и на более позднее время. Перепроверяю в телефоне – оказалось, что это рейс с другого автовокзала. Злюсь, судорожно ищу альтернативы. Рядом Варшавский автовокзал, с него автобус до Тулы отходит в 14:30. Сейчас два ровно. Кидаюсь обратно в метро, пытаюсь успеть. Выхожу на Каширской, бегу к автобусной остановке, подъезжает нужный автобус, но понимаю, что уже не успею. Шагом, глубоко дыша, возвращаюсь к метро. Что-то весеннее чувствуется в воздухе, в блеске мокрого асфальта и солнце на ясном небе. Возвращаюсь в Орехово – всё же нашёлся рейс на три часа. Снова подхожу к кассе – она уже открыта, – прошу билет, кассирша, полная женщина с тёмными волосами, спрашивает паспорт. У меня его нет с собой. Упрашиваю продать так. Не поддаётся. Сидящая рядом кассирша, как будто та же, что первая, только со светлыми волосами, предлагает мне поехать в Царицыно и там сесть на электричку. Благодарю, в очередной раз спускаюсь в метро и возвращаюсь на одну станцию назад. Поднимаюсь из метро, прохожу под мостом, иду по желобу между двумя сетчатыми заборами, ограждающими пути, подхожу к кассовому аппарату – ближайший поезд в 15:26. Покупаю билет, иду к турникетам, где сидит дежурный со смуглым лицом и большим картофельным носом, спрашиваю, с какого пути поезд до Тулы. Отвечает, с третьего. Спрашиваю, как туда пройти. Неторопливо, мыча, говорит, как; употребляет даже интеллигентое словосочетание «лестничный марш». Благодарю, выхожу, слышу вслед его какое-то добродушно-свойское «давай». У урны прямо перед машущими дверьми замёрзшая блевота – розовая, с кусочками хлеба. Решил немного прогуляться по окрестностям. Снова прохожу под мостом, перебегаю дорогу и иду мимо серых обшарпанных домов, смешных цен и несмешной нищеты. Напротив торгового центра, возле знака остановки, люди выстроились в две очереди – видимо, с транспортом тут всё плохо. Останавливаюсь, достаю из рюкзака яблоко, на ходу ем, сворачиваю с проезжей части во двор, иду мимо подъездов, ищу урну, чтобы выбросить огрызок. На одном из подъездов табличка – «центр трудоустройства». Погадал, куда бы меня могли пристроить, понял, что никуда, пошёл дальше.
На дорожке, идущей вдоль торца дома, прямо над головой пролетела стая голубей; в свете зимнего солнца эти невзрачные создания выглядели даже величественно, как божьи посланники, как бы гнавшие меня назад, домой. Но я не подчинился и пошёл дальше. Вышел на «Весёлую» улицу, сфотографировал табличку с адресом на каком-то обнесённом сайдингом гараже. Впереди – парк «Сосенки» – в нём и вправду одни сосны, большие, рыжие, ветвистые. Подумал даже пропустить поезд и погулять здесь подольше, но быстро отмёл эту мысль. Прогулялся по парку и пошёл к станции, но решил не идти тем же путём, а сделать круг, точнее, из-за геометрии улиц, квадрат. Последнюю его четверть бежал – боялся опоздать. Пришёл чуть заранее, ждал на платформе. Какой-то мужик, вероятно, сумасшедший, что-то настырно просил у стоящего рядом с ним негра в чёрной шапке и чёрной же куртке; тот посмотрел на него настороженно, как пуганая газель, и отошёл подальше. Я тоже отошёл, чтобы и ко мне не прикопался.
Сел в поезд, прошёл несколько вагонов, чтобы было побезлюднее, но ни одного целиком свободного ряда не нашлось, и я сел напротив парня с тёмными волосами и лиловыми щербинками от прыщей на лице. Как только тронулись, в дверях встал седой щетинистый мужик в кожанке, с колонкой на тележке и с микрофоном в руках, приторным голосом пожелал нам хорошей поездки и запел песню про старый забытый вальсок. Стало до невозможного тоскливо, подумал воткнуть наушники, но пожалел мужика и дослушал все четыре куплета до конца. Мужик тем же приторным голосом поблагодарил нас, пожелал хорошей поездки и пошёл в следующий вагон; только в одном ряду звякнула мелочь. Я оглядел пассажиров. В ряду напротив сидела женщина в тёмно-зелёном пуховике и в серой шапке и с каким-то страдальческим лицом дремала. В следующем ряду сидел какой-то не то индус, не то араб с широким носом и чистым, кажется, отполированным до блеска лбом.
Парень, сидевший напротив, весь путь протыкал в телефон и в Чехове вышел. Незаметно стемнело. Читать наскучило, сгрыз пару печений, достал планшет и стал писать. Сначала нехотя, потом втянулся. Пока писал, вдруг задался вопросом, уже давно меня интересовавшим: какой была половая жизнь в девятнадцатом веке? Загуглил. На этот запрос вылезло даже несколько научных работ, но я открыл статью на каком-то сексуально-просветительском сайте в розовых тонах. Как ни странно, в этом смысле крестьяне были намного образованнее аристократии, а их отношение к сексу было куда здоровее. В высших же кругах, если дворянских мальчиков, из страха, как бы они не «захворали» рукоблудием, чуть ли не с четырнадцати лет водили в публичные дома, то девочек же наоборот держали в неведении касаемо секса, так что вплоть до замужества они, знавшие о любви только из романов, могли думать, что дети появляются от поцелуя или долгого пребывания рядом друг с другом. Бывали случаи, когда мужья, чтобы научить своих молодых жён, у них на глазах занимались сексом со служанками или проститутками. Но я искал не это. Мне было интересно, пользовались ли тогда контрацептивами, практиковали ли что-то, помимо традиционного генитального секса. Но людям того времени всё же удалось утопить всё это в стыдливом молчании, так что, вероятно, об этом я мог бы узнать разве что из личных записок, каким-то чудом дошедших до наших дней.
В Серпухове в ряду у дверей села молодая семья: парень, примерно мой ровесник, но, видно, уже прошедший армию, смугловатый, с короткими светлыми волосами и патчем «Stone Island» на плече камуфляжной куртки, девушка в розовом пуховичке, с широким первобытным лбом и чёрными, собранными сзади в пучок волосами, мальчик лет семи, весь укутанный, только мышиные глазки видно, и женщина с жёлтым мятым лицом и тёмными измочаленными волосами, кажется, мать кого-то из молодых родителей. В вагон вошли контролёры. Сначала проверили мой билет, потом подошли к той семье. Молодая мама отказалась платить за ребёнка и поспешила к дверям, но никто из близких её не поддержал; тогда она вернулась и стала ругаться с контролёршей. В один момент муж за неё всё-таки вступился, мямля что-то неразборчиво, как слабоумный. Наверное, в армии мозги сапогами отбили. Контролёрша переключилась на него, приговаривая: «Дома так разговаривать будешь». Думал, всё плохо кончится, но молодой папа отпустил какую-то шутку, от которой даже ребёнок засмеялся, и обстановка разрядилась; контролёрша ещё чуть побранилась и пошла дальше. Почти сразу к молодой семье подошёл тот не то индус, не то араб со сверкающим лбом, они с молодым папой пожали руки и на ближайшей станции все вместе вышли.
На их месте теперь сидел мужчина в чёрной майке (его куртка висела рядом на крючке) и разговаривал по телефону через наушники. В вагон вошла торговка, стала предлагать утеплённые стельки и силиконовые разделители для пальцев ног. Чтобы не глазеть, я разглядывал её через отражение в окне, повернувшись так, будто хочу увидеть то, что впереди поезда. Она говорила громким, чуть хрипловатым голосом и не говорила, а, скорее, декламировала, как будто речь шла о чём-то более высоком и важном, чем стельки и разделители для пальцев ног. Мужчина в чёрной футболке раздражённо попросил женщину говорить потише, она подчинилась, отошла чуть подальше и продолжила уже не так громко. Закончив свою речь, она пошла вперёд, что-то тихонько напевая, но тут вдруг, как бы сорвавшись, кинула через плечо мужчине в чёрной футболке какую-то бессмыслицу вроде: «В наушниках, а мы твой разговор слушаем!». Никто у неё ничего не купил.
За станцию до Тулы написал Паше, предложил встретиться. Семь часов. Как сошёл на перрон, понял, что в Ясную Поляну поеду уже завтра. Зябко. В последний раз был здесь два года назад, тоже на зимних каникулах, но ощущение, как будто и не уезжал. Сворачиваю перед зданием вокзала налево, прохожу мимо ларьков с пряниками и шаурмой и иду по Красноармейскому. Надо бы зайти куда-то поесть, погреться. Прохожу по мосту, слева остаётся какой-то парк, справа – здание с бегущими по нему красными буквами.
Вижу знакомый пятачок с ресторанами, захожу в предбанник, откуда двери ведут в три разные кафе: корейская курочка, суши и «Бургер Кинг». Хочу зайти в корейское, но долго топчусь на входе, боясь, что там будет дорого и придётся уйти, ничего не взяв. Решаюсь, захожу, беру рамен – он самый дешёвый и, судя по весу, сытный. Пока был в туалете, приготовили, забрал, разочаровался в размере порции и сервировке (круглый пластиковый контейнер), съел. Думал ещё посидеть, но в телевизоре на стене напротив кассы громко пенилось мыло какого-то бабского шоу по «Пятнице». Ответил Паша, удивился, спросил, где я. Пишу название кафе, сам в этот момент перехожу в «Бургер Кинг». Беру два бургера и после долгих раздумий – девять луковых колечек, дожидаюсь заказа, сажусь за стол, ем. Паша пишет, что через полчаса закончит работу, предлагает встретиться. Договариваемся, что пойдём друг другу навстречу. После еды пишу – начало дневного объёма уже положено, так что идёт легче. За соседним столиком сидят две девочки-подростка: одна – толстая, вся в чёрном, вторая – тонкая, размалёванная. Крикливо, матерясь через каждое слово, тонкая рассказывает толстой о том, что какая-то «она» вымогает у неё деньги, потому что думает, что та замешана в каких-то наркотических делах; думает, что деньги лежат у неё под кроватью. Наконец тонкая, доведя себя своей же историей, шмякнула по столу ладонью и со свистом от подкативших к горлу слёз вздохнула. В это время я писал сцену в самолёте, поэтому всё это казалось разговором двух пассажирок, сидящих на соседних креслах. Через время, когда я в следующий раз вынырнул из текста, толстая уже приглашала тонкую на свой день рождения, для отмечания которого она «снимет хату». Тонкая вроде согласилась.
Заканчиваю логический кусок как раз в тот момент, когда уже настаёт пора выходить. На душе хорошо, дело сделано. Кладу в рюкзак недоеденный бургер, выхожу из кафе, иду дальше по Красноармейскому, поворачиваю возле торгового центра «Куклы» (разноцветные округлые буквы на фасаде), подхожу к остановке, жду, вскоре появляется Паша. Он, как всегда, удивляет своим высоким ростом; чуть располнел с последней встречи два года назад, лицо округлилось. Крепко жмём руки, я свою отнимаю, а он ещё держит, неловко. Идём дальше по той же улице. Центр, вокруг светятся кафе и магазины. Паша спрашивает, что привело меня в Тулу на этот раз. Отвечаю, что бегу от жизни, смеюсь, а, впрочем, вполне серьёзен. Говорю, что ещё хочу съездить в Ясную Поляну, где жил Толстой, что мне очень близко его позднее творчество. Паша просит привести примеры. Перечисляю «Крейцерову сонату», «Воскресенье», «Исповедь», «Дьявола». Паша говорит, что обо всём этом только слышал. Спрашиваю, бывал ли он в Ясной Поляне. Отвечает, что только в детстве. Рассказываю о побеге Толстого из неё, во всех подробностях, потому что только-только об этом прочитал. Паша прерывает мой рассказ «земными» делами, предлагает зайти в кофейню «Сова», мимо которой мы проходили. Перед входом Паша курит. Спрашиваю его о работе. Говорит, работает в телекоммуникационной компании «Дом.ru», ходит по квартирам, предлагает подключить интернет. Спрашивает, знаю ли эту фирму. Говорю, нет, у нас давно уже всё «заростелекомилось». Смеёмся.
Заходим в кофейню – нет свободных мест, вечер четверга, странно. Возвращаемся чуть назад, ещё одна кофейня, заходим внутрь, присаживаемся за столик, над нами по всей стене тянется решётка, увитая зеленью, вдоль стены на рельсах – лестница – видимо, для ухода за растениями. Заказываем я – цветочный иван-чай, Паша – лунго, хотя он и так бодр, даже слишком; говорит, настроение просто хорошее, но его энергичность немного смущает, чувствую в нём какой-то надрыв.
Рассказывает, что никак не может забрать с почты книгу со стихами какого-то польского поэта, даёт почитать один стих. Без строф, без рифмы, без размера. Говорим о жизни. Говорю, что со мной повторяется то же, что происходило два года назад, те же настроения, те же действия в те же даты, как, например, эта моя поездка в Тулу. Паша говорит, что с ним ничего такого не случается, только кидает из «хорошо» в «плохо» и обратно. И что ему иногда «башню сносит». Показывает передние зубы, говорит, один из них вставной – на вид и не определишь. Рассказывает, как так вышло: шёл ночью, на лавочке сидели хачики, переступил через их орешки. Причём зуб ему выбили уже на обратном пути – не хотел обходить хачиков только потому, что они ему угрожали. Его телефон, лежащий на столе, постоянно пиликает от приходящих сообщений. Паша извиняется, говорит, по работе, и отвечает. В конце концов перестаёт, и мы оба только поглядываем на периодически мигающий экран.
И для меня, и для Паши наши напитки в новинку, и ни мне, ни Паше они не нравятся, но всё равно выпиваем. Расплачиваемся, встаём и выходим.
Начало одиннадцатого, Паша говорит, ему завтра вставать в 7 утра, хочет перед работой ещё успеть позаниматься в зале. Предлагаю проводить его до дома, переживает, как я буду возвращаться, успокаиваю тем, что есть карта и что я как раз хотел погулять.
Идём в Заречье по большому мосту, сзади – «Туламашзавод», справа – ещё какой-то завод, впереди слева – музей оружия, белое здание с железной шатёрной крышей. От моста идём всё так же по прямой, говорим о свободе, о творческом процессе и о том, что, когда бросаешь курить, не нужно бросать курить – нужно просто не курить. Паша хвалит меня как собеседника, говорит, мне можно раскрыться. Приятно.
Проходим мимо большой церкви из тёмно-красного кирпича, Паша говорит, его там крестили. Заходим в «Spar», Паша покупает сок с вишней и мятой, я – сосиску в тесте и печенье. Паша, глядя на всё это, выложенное на кассовую ленту, говорит, что отказался от мучного – от него прыщи и вялость. Хочу положить всё, что набрал, на место, но всё равно покупаю – слишком долго выбирал. Выходим из магазина, идём дальше.
В один момент дорога наклоняется вниз, и мы, спустившись по бетонным ступенькам, встаём под синим облезлым козырьком в торце дома. Паша, как он говорит, любит здесь постоять в тишине, перевести дух. Впереди внизу – мост, за ним вдалеке – уже холодные, редкие, тоскливые огни деревни. За сигаретой Паша говорит о своих планах в феврале приехать вместе с девушкой в Москву. Говорю, что они могут остановиться у меня. Благодарит, виновато оправдывается за то, что не может принять меня у себя – родители. Ничего, говорю, мне так даже интереснее – в зале ожидания вокзала с бывшими зэками, как в прошлый раз, или в хостеле. Попили вишнёво-мятный сок, прошли между углами домов – того, где был синий навес, и стоявшего поперёк, – свернули и пошли вдоль второго. Слева, за забором, детский садик, в который ходил Паша. Вот и Пашин подъезд. Чуть постояли, закрыли все темы и разошлись – Паша пошёл к себе, а я – сначала обратно, как шли, потом передумал, подождал, пока закроется подъездная дверь, развернулся и пошёл дальше вниз, сам не зная куда.
Настроение хорошее, доброе и тут же – раскаяние за вчерашнее. Пишу Прокофию, что только что увиделся с Пашей, прислал фотографию местности. Удивилась, предположила, что здесь, должно быть, хорошо сочиняется. Так и есть – в голове уже завязывалось какое-то четверостишье. Спросила, как прошёл день, как я решился на эту поездку. Написал, что отвечу, когда буду в тепле.
Уткнувшись взглядом в пустую заметку на телефоне, иду через двор, ко мне подбегает такса с палкой, рефлекторно начинаю отбирать. Рядом ещё одна такса, толстая, как докторская колбаса, и хозяйка. Такса резко и часто мотает головой, не даёт палку, хозяйка смеётся. Подлавливаю момент, когда собака перехватывает палку, выдёргиваю. Хозяйка говорит швырнуть куда-нибудь подальше. Случайно зашвыриваю в сугроб. Пока собака роется в сугробе, глажу её пухлую напарницу. Палка всё не находится. Пойдём, говорит хозяйка, не будем задерживать человека. Хочу поиграть ещё, но, чтобы не смущать, ухожу. Упёрся в какие-то гаражи, дальше темно и страшно, развернулся, пошёл обратно. Онемевшими от холода пальцами пишу:
«Что-то в сердце всколыхнётся,
Лишь когда уйдёт момент,
Словно тусклый отблеск солнца
В бесконечности планет»
Дальше не идёт. А то, что идёт, получается плохо, вымученно. Всё-таки я не поэт. Снова выхожу на широкую дорогу, иду к мосту. Слева пряники, справа пряники. Озадачиваюсь вопросом своего ночлега. Думал идти ночевать на вокзал, в комнату отдыха, как в прошлый раз, но решил не повторяться, стал искать хостел. «Катарина», в центре, рейтинг 4,4, выше, чем у всех остальных поблизости, два с половиной километра от меня. Иду теми же улицами, которыми мы шли с Пашей, но теперь пустыми, мёртвыми, как на макете. Устал, иван-чай просится. Переулком дохожу до нужного дома, розового, узорчатого, как пряник, долго не могу найти вход в хостел, бегаю глазами между домом и его фотографией в телефоне. Ага, вход со двора. Звоню в дверь, открывают, вхожу в предбанник. «Бронировали?» – устало спрашивают сверху. Поднимаю голову, над перилами лестницы нависает светловолосая женщина. Нет, отвечаю. Велит надевать бахилы и исчезает. Надеваю бахилы, поднимаюсь по кафельным ступенькам, подхожу к стойке. 600 рублей – ночь. Соглашаюсь. Паспорт. Нет, без него нельзя, каждый день полиция ходит. Со скрипом принимает студенческий, заносит над сканером и долго смотрит. Тишина, где-то только журчит телевизор, русский сериал. Студенческий просрочен. Объясняю, у нас дистанционка уже два года, не мог продлить. Соглашается на фотографию паспорта. Пока ищу, говорит, что оплата только наличными. Соглашается на перевод. Фотографии нового паспорта нет, отправляю старый, просроченный как полгода. Не прокатило. Спрашивает, откуда вообще я. Отвечаю, из Москвы. Говорит, мне лучше поискать другое место: в чужом городе без паспорта – это странно. Вздыхаю и выхожу. Чувствую себя беглым преступником, стыдно, мерзко. Иду к вокзалу, там вроде как без паспорта в прошлый раз приняли. Представляю, как стал бы доказывать администраторше свою порядочность, а она бы пригрозила полицией, а я бы сказал, что специально дождусь полиции, чтобы она поплатилась за свою недоверчивость. От этих мыслей только ещё хуже. Наконец не выдерживаю и начинаю измываться над собой вслух: «Бедненький, обиделся на то, что тётенька из хостела, которую ты видишь в первый и последний раз в жизни, посчитала тебя беглым преступником. Давай ещё, как Толстой, обозлись на бездушную бюрократическую систему». Полегчало. Поворачиваю в сторону Московского вокзала, но иду не по Красноармейскому, а по соседней улице, более узкой. С остановки, непонятно чего ожидая в половину первого, кричит какой-то мужик, спрашивает сигарету. Отвечаю, что не курю. Замечает уже вдогонку: «Везёт». Да уж, говорю себе под нос, это точно.
Иду дальше, на каждом повороте останавливаюсь и думаю, не свернуть ли здесь. Терпеть ещё мог, но вдруг из какого-то детского авантюризма захотелось помочиться посреди улицы. Останавливаюсь между остановкой и забором какого-то зелёного здания, кажется, школы, встаю перед сугробом, озираюсь и писаю. Закончив, разрыхляю ботинком жёлтый снег, присыпаю его чистым и иду дальше.
Наконец на предпоследнем повороте сворачиваю в переулок, иду через двор. Дома кукольные, как будто за окнами ничего нет, только фанера и гипсокартон. Ещё школа, теперь оранжевая, как и та, – скучный строгий параллелепипед. Выхожу на финишную прямую – впереди уже маячат красные буквы «Московский вокзал». Ноги от усталости ватные, взгляд судорожно цепляется за каждую вывеску, от близорукого прищура болят веки. Вхожу в здание вокзала, в тамбуре, слева – железная дверь с домофоном. Звоню. Спрашивают QR-код. Пока копаюсь в электронной почте и борюсь с Госуслугами, в тамбур заходит женщина с чемоданом, спрашивает, сколько стоит ночь. Передаю её вопрос домофону. 1100. «Не так уж и дёшево», – говорит женщина и входит на вокзал. Мысленно с ней соглашаюсь, начинаю сомневаться. Но всё же нахожу QR-код и оповещаю об этом домофон. Щёлкает замок. Открываю дверь, вхожу. Лестница узкая и крутая, как в средневековом соборе или как на маяке. Поднимаюсь, подхожу к знакомой стойке, за ней – женщина в серой форме, с короткими волосами неопределённого цвета, лицо доброе, как у старой, уже не раз избегавшей мышеловки мыши. Сканирует QR-код, спрашивает паспорт. Уговаривать за такие деньги желания нет, говорю уже через плечо, что есть только фотография, ухожу. На лестнице администраторша меня догоняет, предлагает подойти вместе к полицейским, «пробить меня по базе». Нехотя оправдываюсь, что у меня фотография только просроченного паспорта. Администраторша, останавливается, блекнет: вы поймите, говорит сочувственно, это же бред какой-то. Вторично прощаемся.
Вхожу на вокзал. Рама металлоискателя, багажный сканер, полицейские. Металлические предметы, телефон в контейнер, рюкзак на ленту. Прохожу в зал ожидания. Скамейки с жёсткими зелёными сидушками, каждое место отсечено подлокотником. Лечь не получится. Сажусь. Почти все спят; эхом разлетается храп. Затхло, уныло. Набираю тёте (живёт в нашем доме, на два этажа ниже) хочу попросить подняться к нам и сфотографировать мой паспорт. Смотрю на время – начало второго, – передумываю, сбрасываю, но уже когда на том конце взяли трубку. Звоню ещё раз, объясняю ситуацию, в это время выхожу из зала ожидания, чтобы никому не мешать своим разговором. Ира спрашивает, всё ли у меня в порядке, нет ли проблем с полицией. Говорю нет, в доказательство звучит вокзальное объявление: по пятому пути пройдёт товарный поезд. Вроде верит, говорит, через 5 минут пришлёт. Приходят фотографии паспорта, главной страницы и прописки. Сообщением благодарю. Спрашивает, зачем я поехал в Тулу. Отвечаю про друга и Ясную Поляну. Напиши, как заселишься, жду фотоотчёт. Хорошо. Решаю, раз уже есть фотографии паспорта, попытать счастья в каком-нибудь хостеле поблизости. «Like hostel» на Красноармейском, 400 рублей, 1 километр. Идти неохота, заказываю такси, всего 75 рублей. Приезжает Ахмад на «солярисе». Время поездки – три минуты. Высаживает меня на углу дома и быстро растворяется в ночной пустоте. Хостел опять спрятался за спиной дома. Звоню в дверь. Все места заняты. Понятно, спасибо. Стою посреди улицы. Тихо, пустынно. Онемевшими от холода пальцами тыкаю по карте в телефоне, обзваниваю один за другим все хостелы. Либо не отвечают, либо все места заняты. Январь, ночь с четверга на пятницу – пик сезона в Туле. Отчаиваюсь настолько, что звоню в «Катарину», говорю знакомому голосу, что получил фотографию паспорта, спрашиваю, заселит ли. Нет, не заселит, человек в незнакомом городе без паспорта – это подозрительно, буду говорить прямо. Хорошо, до свидания. Моя судьба – комната отдыха на вокзале за 1100 рублей. Смиряюсь, иду навстречу судьбе. Но ещё долго стою в вокзальном тамбуре, оценивая ущерб для моего бюджета. Порываюсь снова пойти в зал ожидания, но вспоминаю тамошнее сонное уныние и храмовый храп и жму на кнопку домофона. Спускается та же бесцветная администраторша, вместе идём к ментам. Она у них спрашивает, можно ли меня «пробить по базе». Те пожимают плечами, говорят, сейчас подойдёт главный. Она уходит, приходит главный, с большими, оттопыренными шапкой ушами, похожий на Павла Дурова. Объясняю ситуацию, сам до конца не понимая, чего от меня хотела администраторша. Главный говорит, никак меня не пробьёт, потому что я ничего такого не сделал, чтобы меня пробивать, велит сказать администраторше, что всё в порядке. Говорит по-доброму, с лёгкой шутливостью. Даже полегчало после всей этой эпопеи с заселением. Возвращаюсь в комнату отдыха, чувствуя себя Стэном из «Южного Парка», который, чтобы остаться в общине защитников животных, должен был получить разрешение у козла. Никаких оскорблений должностных лиц – просто ситуация похожая.
Двухместный номер за 1100 уже заняла та женщина «не-так-уж-и-дёшево», остался только трёхместный за 1300. Нет, говорю, это уж слишком дорого, в хостелах в два раза дешевле. Где это вы видели? На сайте. Это они только в интернете так пишут, а на самом деле у них так же. Говорю, что почти устроился за 600 рублей, если бы не паспорт. Соглашается поселить меня в трёхместный номер за 1100, но может кого-то подселить, если кто придёт. Так же, как в прошлый раз. Внутренне съежившись, кладу карту на терминал.
Отводит в комнату, душ, раковина слева, туалет справа, моя кровать дальняя, справа от окна, включает обогреватель, уходит. В тишине что-то мерзко, как комар над ухом, пищит. Предвкушаю ночные муки, в отчаянии ищу источник писка. Выключаю свет, писк прекращается. Облегчение. Сажусь на кровать, разуваюсь, приставляю промокшие ботинки к батарее, сверху на неё кладу носки. На носочках, боясь грибка, иду в ванную, долго смотрю в зеркало на свой прыщавый лоб. Доем запасы из рюкзака и больше ничего мучного. Выхожу из ванной, ложусь на кровать. Тепло, уютно. Пишу сначала Ире: только заселился, извини, что так долго; присылаю фотографию комнаты с торчащими в углу кадра моими ногами. Отвечает, круть. Потом пишу Прокофию – примерно то же самое, только ещё расписываю весь свой день. Она спрашивает, ничего ли я не «додумал» касаемо вчерашнего. Додумал, пишу, присылаю письмо Толстого Черткову из эпиграфа к «Бегству из рая», про то, что мы так храбримся друг перед другом, что забываем, как жалки, если только не любим, прикидываемся грозными львами, а на деле – больные цыплята. Потом пишу, что говорить гадости близким можно сколько угодно, но вопрос в том, смогут ли тебя простить (в том числе – и ты сам), когда отпустит; я понял, пишу, что несмотря ни на что хочу любить её всей своей гнилой и чёрствой душой. Два часа ночи, ни на что, кроме банальностей, умственных сил сейчас не хватает. Прокофий пишет в ответ, что ей было очень тяжело, что она пропустила сегодня школу и что не смогла скрыть своих переживаний от родственников, но что она прощает меня, хоть и сделав определённые выводы. «Если я раскаялся, – фыркает внутри меня какой-то ёж, – значит, можно уже и обижаться. Может, я и не хочу каяться, может, я хочу всё доломать. Я не чувствую вины, поэтому всего этого прощения с некоторыми поправками не принимаю. Это я ещё должен прощать». Зачем я уехал в Тулу? – спрашивала меня Прокофий и спрашиваю себя я. Освежить мысли? Сбежать? Я и сам не знаю. Как не знаю, в чём моя вина. Человек знает, а ёж не знает. А я где-то посередине, только догадываюсь. А ещё я устал и хочу спать. Извинился перед Прокофием, написал, что сейчас уже голова не соображает, пообещал завтра ответить на её размышления о любви, возникшие в чате параллельно с моими собственными, о нелюбви. Пожелали друг другу спокойной ночи, теперь уже я вдогонку отправил «люблю». И она меня. Холодно, без сердечка.
Напоследок послушал мамины голосовые. Она говорила, что у них в Турции наконец-то потеплело после затяжных холодов, когда температура опускалась до нуля; рассказала историю, которую услышала от своего отца, моего дедушки, про двух писателей советской эпохи: один донёс на другого, получил за это деньги, а тот другой, зная о предательстве первого, всё равно вместе с ним выпил, когда тот его угостил выпивкой, купленной за те самые, «наградные» деньги. Мама спрашивала, не знаю ли я, о каких писателях речь, потому что дедушка забыл. Нет, не знаю, хотя история мне показалась знакомой. Мама тут же послушала моё голосовое и ответила своим: голос у меня какой-то странный, ничего не случилось? Может, какие-то проблемы в отношениях? Эта мамина прозорливость меня разозлила. Хотя какая тут прозорливость, когда всё так просто? Поэтому злила меня, скорее, именно эта простота причины, по которой мне грустно. Хотелось, чтобы всё было сложнее, глубже, чем просто «проблемы в отношениях». Хотя, в сущности, всем грустно либо от любви, либо от её отсутствия. Просто в любви особенно заметно, как мы далеки от неё. Но чисто из вредности вместо рассказа обо всех моих переживаниях и странствиях я ответил, что всё в порядке, просто спать хочу. Хорошо, тогда засыпай, спокойной ночи. Перед тем, как заснуть, ещё долго вспоминаю Прокофия, её семью и их квартиру; всё это, как бы спаянное в моём воображении в единый образ, кажется мне чужим или, скорее, просто не моим.
Проснулся как будто со сквозняком в груди, чужой самому себе, одинокий. Но смотрю в окно, на выбеленную снегом площадь перед вокзалом, и чувствую себя голубем, ютящимся на мансарде какого-то большого старого здания. От этого детского перевоплощения становится веселее. Тяготы ночи позади, а впереди – новый день, поездка в Ясную Поляну и возвращение в Москву, ставшее ожидаемым, ещё как только я сошёл с поезда. Оделся, умылся, собрал вещи, попрощался с администраторшей, уже, кажется, новой, спустился по лестнице, вышел на улицу. Проскакал по сугробам, опережая едущий троллейбус, к предполагаемый остановке, но оказалось, что она была прямо у вокзала, где у троллейбусов депо. Сел на ближайшую «пятёрку», тут же на входной площадке наткнулся на контролёра (они здесь, кажется, не мобильные, а стационарные, сидят всё время в одном троллейбусе) и поехал по прямой, по одной и той же улице, всё время поглядывая в навигатор.
На площади Победы (самой площади не видел, так просто называлась остановка) пересел на 114-й автобус, снова рассчитался с контролёром и поехал дальше. Пыльное окно как будто было затянуто старой змеиной шкурой, да и я провалился в книгу, поэтому не заметил, как городской пейзаж сменился сельским. На Школьной улице я вышел. Бело, тихо, только дорога шуршит редкими машинами и ветер свистит, задувая под шапку. Встал под козырёк остановки, посмотрел куда идти дальше, достал из рюкзака оставшиеся съестные запасы – бургер, сосиску в тесте и печенье. Пока ел, к остановке подошла женщина в зелёном пуховике. Подумал, из Ясной Поляны, даже трепетно стало. Разложил оставшиеся пачки печенья по карманам, кое-как запихнул коробку в переполненную мусорку, пошёл по дорожке, по которой пришла женщина в зелёном пуховике. Впереди – солидное белое здание, резко отличающееся от деревенских построек вокруг. Всё, подумал, дом Толстого. Нет, не он. Обошёл, спустился вниз по тропинке. Перед зданием – белый памятник, кому, непонятно, то ли раннему Толстому, то ли позднему Ленину. Рядом, друг от друга прячась за ним, играют маленькие мальчик и девочка, оба с школьными рюкзаками и мешками со сменкой. Боясь их спугнуть, подхожу к памятнику. Никаких надписей. Детей плавно от меня отмагничивает. Поднимаюсь выше, ко входу в белое здание. Оказалось, яснополянская школа для крестьянских детей, открыта дочерью Толстого Александрой. Спускаюсь обратно, прохожу через вереи с колоннами, потом по мостику, выхожу на просёлочную дорогу. Справа – кованый забор, слева – туалет, за ним – сплошной забор с фотографиями Ясной Поляны и цитатами Толстого о ней. Иду через парковку вдоль ещё одного забора, за которым строят центр приёма туристов. Въезд. Две башенки-сторожки с зелёными крышами, рядом – зелёные же билетные аппараты. Аппараты не работают, билеты в кассе, говорят охранники. Иду к кассе. 100 рублей прогулка, 450 экскурсия, 400 льготный. Если экскурсия, прогулка бесплатно. Группа ушла 20 минут назад, следующая только через полтора часа. Гулять одному по территории не хочется – волнительно, как будто там, на прогулке, меня ждёт долгий и изнурительный поиск истины. Спрашиваю, где здесь можно подождать. В кафе «Прешпект», деревянный домик рядом. Беру экскурсию (не смотря просроченный студенческий, пробивают по льготному), иду в кафе, захожу внутрь. Предбанник, справа дверь, за ней – крохотный зал, пара столов, прилавок, за ним теснятся толстые кухарки. Одна подходит, добрая, с «пистолетом» для измерения температуры. Даю запястье. Не хочет мерить, капризно пищит. Пробует ещё раз. То же самое. Пробует на себе. Работает. Смеётся, пробует на других кухарках – тоже работает. Ладно, говорит, проходи, это мы на камеру. Чувствую себя особенным. Меню на столе. Смотрю, заказываю яичницу по-холостяцки – как Толстой в Белёве – и чай, по местным распорядкам расплачиваюсь сразу. Пока жду, пишу – место должно располагать, но всё равно тяжко. Из телевизора вещает Лукашенко: людей загнали по домам и подсадили на гаджеты. Отвлекает. Съедаю яичницу, выпиваю чай, продолжаю писать. Подвожу мысль ровно к началу экскурсии. Выхожу из кафе, подхожу к зелёным башенкам. Возле них уже стоят женщина-экскурсовод с рыбьим прыщеватым лицом и необычным, кажется, татарским именем на бейджике, и два остальных экскурсанта, мужчина и женщина, оба где-то ближе к сорока. Молча поднимаемся по «Прешпекту», и у теплиц экскурсовод начинает говорить. Быстро и как-то механически, не скрывая заученности, но увлекательно. В именах всех этих Остен-Сакен и Горчаковых, к своему удивлению, не путаюсь, по книге ещё хорошо помнится, даже хочу завершать за экскурсоводом фразы, но давлю в себе это самодовольное желание. Поднимаемся по «Прешпекту», иногда останавливаясь, чтобы послушать экскурсовода. За ночь намело много снега, и сейчас рабочие в тёмно-синих куртках счищали его с почерневших от времени, уже нежизнеспособных деревянных построек. Подошли к дому Толстых. Понял это не сразу, думал, что их дом стоит посередине участка, перед большим прудом, но то был дом Волконского. А их дом стоял слева от «Прешпекта»; фактически, «Прешпект» и вёл к нему. Белый, с зелёной крышей, без изысков. Мы обили ноги об ступеньки на крыльце с балясинами и вошли внутрь. На входе тут же надорвали билеты. Чистые бахилы в картонной коробке, верхнюю одежду оставляйте в гардеробе. Мужчина-экскурсант оказался раковобольным – об этом говорили неестественно гладкая лысина и зеленовато-жёлтые пятна на щеках. Улыбка его спутницы сразу показалась какой-то мрачной, тяжёлой. Зачем он здесь? Должно быть, напоследок судорожно познаёт мир. Ведь у кого на закате не щемит сердце?
Прошли через комнату с книжными шкафами (все книги оригинальные, толстовского времени) поднялись по лестнице (осторожно, притолока) и оказались в столовой. Стол сервирован, за ним – маленький столик для шахмат (Толстой любил играть после творческих занятий), повсюду на стенах – портреты семьи Толстых: и дедушка, прототип Андрея Болконского, и Софья Андреевна, и дети, и сам Лев Николаевич в двух вариантах: помоложе, работы Крамского, и постарше, работы Репина. Всё самое важное спрятано в стеклянные ящики. Из столовой прошли в комнату, где раньше жила какая-то из тётушек, но перед смертью съехала, чтобы не портить атмосферу. На стене рядом с окном – карта Тульской губернии. После отмены крепостного права Толстого назначили мировым посредником для урегулирования конфликтов между помещиками и крестьянами в пределах Тульской губернии. Толстой решал все дела по совести, часто не в пользу бывших душедержателей, так что на него несколько раз даже подавали в суд. За время своей службы Толстой открыл несколько школ, в том числе у себя в Ясной Поляне, но до государя дошли сведения (скорее всего, от тех недовольных помещиков), что в Ясной Поляне находится подпольная типография. Тут же нагрянула полиция с обыском. Толстого всё это настолько расстроило, что он стал подозревать в себе чахотку и уехал лечиться к башкирам на кумыс.
Наконец святая святых – кабинет Толстого. У стола – низкий, как будто детский табурет, рядом – чёрный кожаный диван, на котором родили Толстого и всех его братьев и сестёр; сам стол надёжно остеклён, над ним – «Сикстинская Мадонна», в ключевых образах под разными рамами, потускневшая, похожая на выцветшую на солнце вывеску какого-то давно закрытого магазина. Справа от проёма, ведущего в следующую комнату, – фонограф на деревянной подставке, подаренный Толстому Эдисоном на его восьмидесятилетие. Благодаря ему мы имеем возможность услышать голос Толстого. Тётенька-смотритель, замыкавшая нас сзади, по-стариковски медлительно щёлкает кнопками на серебристой акустической системе напротив фонографа, и звучит голос Толстого. «Только, пожалуйста, не шалите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет». Слух зацепился за это «сами шалят». Как будто можно не самим шалить. Толстой, должно быть, как сейчас говорят, боялся микрофона или просто уже от старости заговаривался. Следующая комната – спальня Толстого. Высокая кровать, притёртый к ней шкаф, с него на вешалке свисает белая блуза. Иногда, когда Лев Николаевич тяжело болел, здесь же он и работал. Проходим в дверь слева, спускаемся в гардероб, одеваемся, идём в комнату со сводчатыми потолками и приделанными к ним железными кольцами, на которые подвешивали провизию, чтобы не грызли мыши. Здесь Толстой трогательно неловко стелил кровать для Софьи Андреевны, своей ещё только будущей жены, когда Берсы приезжали погостить в Ясную Поляну. Здесь одно время был кабинет, где Толстой писал «Анну Каренину». И здесь же 9-го ноября прощались с телом Толстого. В тот день через эту комнату прошло несколько десятков тысяч человек – от простых крестьян до высших чинов. Старший брат Льва Николаевича Сергей был большим фантазёром. В детстве он придумал легенду, что в лесу «Старый заказ», на краю оврага закопана зелёная палочка, которой, если её найти, можно сделать счастливыми всех людей на земле. На этом месте Толстой и попросил его похоронить. Ну, а мы идём во флигель Кузьминских, где находится музейная экспозиция. Вышли на улицу, прошли по дорожке по прямой к дому, почти такому же, как толстовский, белому, с зелёной крышей, только поменьше. Также бахилы в коробке и гардероб. Здесь все комнаты уставлены стеклянными витринами, под ними – письма, фрагменты рукописей, журналы, ружья, трубки, одежда, фотографии, игрушки. Почти на всех витринах чёрными буквами – цитаты Толстого. На одной из первых: «Гениальные люди оттого не способны к учёбе в молодости, что подсознательно чувствуют – знать надо иначе, чем масса». Утешительно, даже лестно, фотографирую. В следующей комнате мужчина тоже фотографирует, уже что-то под витриной. Это авторская экспозиция, уведомляет экскурсовод, съёмка запрещена. В одной из комнат – ламберный столик, такой же, как тот, за которым происходило объяснение Китти и Лёвина, а перед этим – Лёвы и Сони. Только Соня, в отличие от Китти, не угадала почти ни одного слова, и Толстой ей подсказывал. За дверью в последней комнате оказался проход в первую. Прошли, спустились, оделись и вышли на улицу.
Чтобы пройти к могиле Толстого, идите прямо, до конца дороги, потом, у «Житни», направо, а на развилке – налево, там везде указатели. Ну, а на этом наша экскурсия подходит к концу, и, если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Вопросов ни у кого не оказалось, и мы разошлись: экскурсовод пошла в сторону «Прешпекта», а мы с парой – к могиле. Сначала они шли впереди, но потом остановились пофотографироваться, и я их обогнал. Повернул перед «Житней», большим бревенчатым домом, направо, прошёл мимо спящего под снегом яблоневого сада и каких-то хозяйственных построек и на развилке остановился. Я предчувствовал, что на могиле моё путешествие закончится, поэтому стоял в раздумьях, прогуляться ли ещё или пойти сразу на могилу. На могилу. Повернул налево и пошёл по извилистой дорожке. Зимний лес, непривычно чёткий в очках, которые я, как и Толстой, без крайней необходимости не ношу. Опушка, низенький, по щиколотку, забор из железных полуколец, за ним – бугорок, как будто слепленный детьми из снега и еловых веток. За опушкой – уходящий в бесконечность овраг. Перешагиваю через забор, подхожу к бугорку. Не верю, что здесь лежит он, от одной мысли голова кружится. Закрываю глаза, и всё замирает, мысли растворяются, вижу какие-то светлые пятна и чувствую близость к основе всего. Кажется, можно так вечно стоять. Но вскоре за спиной заскрипели шаги пары. Подошли, постояли совсем недолго и ушли. Тихо. Огляделся. Никого. Сел на корточки, положил руку на еловый бугорок и сказал: «Я тебя понимаю. И ты бы, наверное, меня понял». Помолчал, раздумывая, обращаться ли на «ты» или на «вы». На «ты», ответил мне он, и я, ковыряя снег и теребя еловые ветки, выговорился весь, задал все свои неразрешимые вопросы, главным из которых, конечно, был бежать или остаться.
Я не рассчитывал получить ответ, но, едва отойдя от могилы, нашёл его в своей голове, будто кто-то его мне туда подложил. Ответом был план, такой же грандиозный, невоплотимый, но пробуждающий к делу, какими были все планы Толстого. Это был план новой жизни.
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0