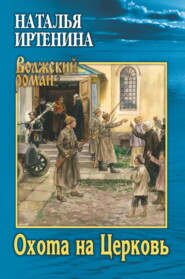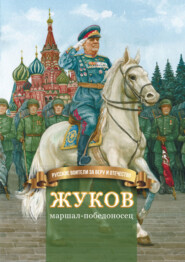По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русь на Мурмане
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь Митрохе чудились голоса осажденных, крики приступающих к городу, удары стенобойных орудий. С тех давних пор мертвое жило здесь своей жизнью, независимой от людей.
Оба воеводы Ушатые, сотенный голова Палицын и прочие вернулись на берег, где пристали лодьи, еще засветло. Митроха отстал в бору за валами и вернулся на руины. Иларька ясно дал знать, что нынче же ночью все решится меж ними, и место указал. Сабля была при себе, владеть ею дядька обучил воспитанника изрядно. А боярский сын Иларька Шебякин трус, распустеха и чванливый балобол. Одно слово – негораздок.
Митроха шел по кромке разбитой почти до подошвы стены, сторожась и прислушиваясь. В синей парче небес всплывал месяц-половинник. Изредка протяжно стонала ночная птица.
Что-то насторожило его. Не звук, не движенье, просто ухнуло сердце. Он бесшумно спустился на руках с края стены и притаился в тени с засапожником наготове. Если Иларька крадется как тать, не видать ему честного боя…
– Твой дружок не придет.
Митроха изумленно поднял кверху лицо. На стене возвышалась четко обрисованная лунным светом фигура.
– В прошлый раз нам помешали. Теперь можем продолжить наш разговор.
Митроха лихорадочно вспоминал его имя – Рок, Руск, Рогоз? Откуда он взялся? Плыл следом за лодейным караваном или прямо на котором-нибудь из насадов, взятых в поход? Но они и без того переполнены людьми.
– А где Иларька? – сумрачно спросил отрок.
– Я же говорил: тебе нужна сторожа. Он более не опасен.
– Где он?
– Он… ушел. Ты вылезешь оттуда или мне спуститься?
Митроха прошел вдоль стены к осыпавшемуся разлому и вскарабкался наверх.
– Чего тебе надо от меня, фрязин?
– Я Равк, а не фрязин. Ты не доверяешь мне. Это правильно. Ты не должен верить никому. Но мне можно. Я и мои братья служим тому, кто владеет знаком, который на тебе. Мы принесем тебе удачу. Вот тебе зарок: в Колмогорах у тебя будет свой дом, богатство, своя дружина из отборных воинов, самая красивая дева полюбит тебя. Ты будешь водить своих воинов в походы и всегда возвращаться с хорошей добычей. Ты победишь многих врагов…
Митроха слушал его вполуха. Он в оторопи смотрел за спину чужака и пытался совладать со скачущими от страха мыслями.
– Тебя это пугает? – усмехнулся клювоносый, оглянувшись через плечо. Месяц светил ему в лицо, а на разбитой стенной кладке позади не было тени. Он беззвучно спрыгнул на обломки стены внизу и слился с темнотой. Оттуда донеслось: – Когда буду нужен тебе, просто произнеси мое имя – Равк.
Митроха, глядя ему вслед, запоздало поднес руку ко лбу, сотворил крест. Долго стоял столбом, обмирая от жути. Потом быстро-быстро, оступаясь на шатких камнях, бездумно и бесчувственно зашагал по останкам новгородской стены. Уже находился недалеко от воротной башни крепости, где можно было спуститься и перебраться через ров. Внезапно нога потеряла опору и подвернулась. Митроха упал, расцарапав ладони о каменную крошку. Боль в ноге помешала сразу встать и идти дальше. Он решил переждать.
Расстегнул петлицы кафтана и ослабил ворот верхней рубахи. Вытянул из-за пазухи гривну. Цепочка по всей длине была обмотана полотнищем, чтобы не привлекать ничьих глаз. Сама гривна, извлеченная на лунный свет, взыграла тусклым зеленоватым сияньем.
Если мать рассказывала верно, ничего не перепутав и не забыв, золотая гривна переходила в их роду от отца к сыну без малого век. А первым ее обладателем был боярский сын Григорий Хабар. Но откуда она взялась и что означает – то неведомо. Хранили ее в великом обереженьи и тайне. Зимой, замыслив побег из Торжка, Митроха выкрал гривну из потайной скрыни. С тех самых пор, как узнал о ней, он считал ее ратным оберегом. Его отец, или тот, кого считают таковым, отверг воинскую дворянскую службу, надев рясу чернеца. Митрофан был намерен не только преуспеть в дворянском звании, но и преумножить старинную честь рода, выбиться в служильцы государева двора, стать заметным для самого великого князя, получить, если доведется, придворный чин. Это было непросто. Москва, в которой и своей знати хватало вдоволь, нынче полнилась всякого рода пришлыми из былых уделов князьями, князьцами, княжатами, боярами и боярскими детьми. Их не просто много, а через край много, как грязи по осени.
Но золотой княжеской тамги ни у кого из них нет, даже у думных бояр. Ни сам Хабар, ни дед, ни отец не сумели ею воспользоваться. В ней – тайна. Он, Митрофан, сумеет оседлать судьбу и понудит ее мчать в нужную сторону. Кому и когда в его невеликих летах приходило на ум начинать служить? На государеву службу шли с пятнадцати годов. А ему многое предстоит совершить, и приступать надо раньше.
Он поворачивал кругляш, рассматривая давно запечатленные в памяти изображения и значки. Одну сторону целиком занимал крест, концы его поперечин были загнуты посолонь. В окошках между перекладинами кто-то когда-то процарапал кривые линии, мелкие рисунки и славянские буквы: СКЛЗЛТББН. На другой стороне вверху скакал олень с ветвями рогов, почти легшими ему на спину. Внизу бежал зверь, похожий на волка; на нем сидел человек в длинном кафтане, с продолговатым щитом в руке.
Отрок похолодел от внезапной догадки. Равк, или как его там, сказал, что он – раб гривны и служит ее хозяину. Отчего же он, Митроха, решил, будто и дед, оставивший голову на плахе, и отец, ни с того ни с сего постригшийся в чернецы, и даже прадед, чья судьба – страньше странного… не знали ее тайны?! Что они не прошли через искушение ею?
Он спрятал кругляш под одежду, плотно запахнул кафтан. Его пробрал озноб. Ночи на севере в середине мая еще дышат зимней промозглостью.
Боль в ноге затихала. Митрофан доковылял до остатков башни. Здесь, как нарочно, стена разрушилась так, что образовала подобие каменной лестницы. Он спустился к валу, на котором были возведены стены крепости, миновал обвалившийся воротный проем башни. Здесь ров пересекала, будто мост, слежавшаяся груда битого камня. Митроха дошел до его середины, когда из-за облака снова выглянул месяц.
На самом дне рва с остатками двинской полой воды, среди глыб стенной кладки лежал мертвый Иларька Шебякин. Митроха присел на корточки, рассматривая его. Поломанное тело неестественно изогнулось, голова была вывернута круто вбок.
Отрок усилием заставил себя оторвать взгляд от мертвеца, встать и пойти. Через ров, сквозь тревожный ночной лес на склоне горы, к берегу реки и лодейному становищу, к горящим кострам и спящим людям. Завтра с утра станут искать пропавшего боярского сына, и тогда он скажет, где видел его. А сейчас нельзя думать ни об этом, ни обо всем остальном.
Иларька виноват сам.
* * *
…После Орлеца Двина словно обессилевала и уже не имела мочи покрыть водами все пространство, объятое ею. Даже от Пинеги, добавлявшей свои воды, не было ей помощи. Река разбивалась на протоки, по местному – курьи, и обтекала пространные, населенные людом острова. Горы тут и впрямь были – и зеленые холмы, и крутые обрывы матерой земли. Сами Колмогоры растянулись вдоль рукава Курополки на несколько верст, окружились островными и береговыми посадами. Один на всех был только колмогорский великий торг, чья слава дошла до Москвы еще сто лет назад.
Митроха в первый же свободный день отправился знакомиться с богатствами полуночных земель, которые свозили на торг купцы и промысловые люди. Торг был не похож на московский. Ни рядов, ни прилавков, ни глоткодеров-зазывал. Все негромко, деловито, чинно. Ярусы бочек с соленой рыбой, бочки с жиром морского зверя, бочки со смолой, возы рыбьего зуба, возы с меховой рухлядью и кожами, груды кусковой слюды, короба с мелким разноцветным речным жемчугом, который купцы в охотку пускали из горстей шелестящими струями. Все в таких количествах, что если розницей торговать – до второго пришествия не управиться. Низовские и редкие заморские гости обговаривали сразу большие купли и тут же везли товар на свои лодьи и шняки либо в колмогорские лабазы на гостином дворе.
У воевод тем временем свои заботы. Двинские охочие люди зачислялись в рать – насчитали больше пяти сотен. За ними объявился отряд с берегов Ваги в две сотни голов. Двинян, важан и половину устюжан решено было отправить наперед – не морем, а берегом до Онеги и других поморских сел, где ползимы и всю весну по указу великого князя корабельщики шили малые суденки – карбаса. Ратные должны были садиться там в эти карбасы и плыть ввиду берегов до устья реки Кемь. Остальным – идти на устюжских насадах из двинского устья до корельского берега, в ту же Кемь.
– В нужном ли числе будут карбасы, Акинфий Севастьяныч?
Князь Петр Федорович Ушатый восседал за трапезой не во главе стола, уступив место по старшинству чина московскому знакомцу, окольничему Андрею Тимофеевичу Головину. Встретились нежданно в Колмогорах, не ведая о том, какие труды возложил на каждого великий князь. Головин держал путь на Двину от Новгорода, куда с осени отбыл государь для войны со свеями. Плавать московским послам через Варяжское море стало нынче невозможно, зато ход по Студеному морю в Данию, куда направлялось посольство, был чист. Пускай гораздо длинен и тяжек, однако надежен от посягновений свейских немцев. Плохо лишь то, что сразу нельзя сесть на лодью – надо ждать, когда чахлое северное лето разойдется и выгонит полуденными ветрами весь лед из моря.
– На двухтысяцну рать потребно сотню карбасов. В Онеге, да в Сороцке волостке, да в Шуеречком, да в самой-от Кемске корабельщики ноне рук не спокладат. Быват, не подведем государя-то.
Колмогорский боярский сын Истратов, в чьем доме остановились князья-воеводы, был природный новгородец, а новгородца всегда можно узнать по его речи с цоканьем, оканьем и прочим кривозвучием, нелепым на слух московского жителя. На Москве их так и звали – цокалки.
– Тамошни корельски вожи, цто по рекам войско поведут до Каяни, у кемскова головы теперь на дворе-от сидят, дожидаюцца.
– А что, Петруша, веришь ли ты сему новгородскому обдувалу? – облизывая пальцы от свиного жира, осведомился Головин. – Он ведь, мыслю, новгородскую свою честь втайне блюдет. А что есть новгородская честь? Москву вкруг пальца обвесть да латинам вовремя подмигнуть. Я, чаю, он своего человечка которого-нибудь уже давно-о на Каянь спроворил с весточкой: ждите, мол, московских сиволапов. И мне дырявые лохани подсунет для посольского плаванья.
– Я, господине, никаку досаду Москве ввек не уцинил и наперед-от не стану, – помрачнел Истратов. – Государь-князь мне это дело сам вверил, грамоту с указом могу всем, кто захоцет, объявить.
– Ввек не уцинил, – передразнил его окольничий. – А родитель-то твой в посадниках на новгородском вече сиживал. От наказания же за свои измены сбег со всем своим домом на Студеное море.
– Не тревожь родителеву память, господине. Вся имения наша в государеву казну пошли, тем и наказаны-от. Поперву и я не хотел московску службу править, на низовско поместье садицце, как процие, кого со старинных мест свели да на новое житье водворили. В том вся моя измена, и за нее споплатился.
– То верно, господа мои, – вставил слово подьячий посольства Григорий Истома, посаженный в дальнем конце и более слушавший, чем угощавшийся. – В недавних временах, года четыре эдак, сам ту бумагу в приказной избе перебелял. Слово в слово государеву укоризну запомнил. Господин Истратов бил челом великому князю, чтоб ему в городские служилые люди поверстаться, потому как одумался он и вину свою признал. Князь же великий повелел ему зваться оттоле колмогорским посадским тяглецом и оружия на себе никакого не носить. По досельной службе и честь – так писано было.
– Дородна посадская чернь в Колмогорах, – крякнул удивленно Головин, – хоромы себе боярские ставит, соляными варницами богатится. Что ж князь великий, отошел разве от своей немилости, званье тебе вернул? Москва-то отсель далеко, много ль оттуда видно. Гляди, шпынь новгородский, веры тебе от меня нет никакой. Коли утопишь посольство государево в вашем чертовом море, тебя как изменщика без замедления посадят за приставы.
– Полно тебе, Андрей Тимофеич. – Воевода Ушатый слушал весь разговор с кислым, как немецкое вино на столе, выражением. – Что ты собачишься, уж помилуй за резкое слово. Я тебе запросто, без чинов, так скажу: государь Иван Васильевич для того и собирает русские земли, чтоб не было впредь ни московских, ни новгородских, ни тверских, а были б одни люди русские, христианские, заодин живущие. Твои же речи обратно, в старинную болотину тянут, откуда мы едва вылезли. Ведомо мне про этого боярского сына. Вернул ему государь служилое звание. А ежели он свое дело худо исполнит, какая ему и детям его от того корысть? Три года тому послы Ларев и Зайцев из датской стороны тем же путем через Мурманский Нос возвращались – на истратовских лодьях.
– Цто веры мне нет – то я уже слышал, – со сдержанной горечью добавил Истратов. – Сказано раз – и ладно. Один раз дорог, не надо сорок. Луччего кормщика на посольски корабелки тебе, господине, подрядил.
– А для какой же надобности истратовские лодьи ошивались в тех латынских местах? – осведомился Головин.
– Сыпь в Норвегу возили, – ответил новгородец. – Зерно.
– Торговля? – Окольничий удивленно задумался. – Не слыхал, чтоб из Колмогор торговый путь до немцев лежал.
– Лучше расскажи, Акинфий, – молвил князь Петр, – не заходят ли к поморским берегам свейские корабли? Может, бывают возле Мурмана? Нынче мы со свеями крепко воюем, как бы они нам с этой стороны дурна не учинили. Поберечься бы. В прошлые-то времена, когда на здешних землях новгородская господа государила, как бывало?
– Всяко цто бывало. Да давнёхо ни свеев, ни мурман не видали. Свейски-то бусы и шняки полста лет тому новгородчи со своих лодий побили, ко Двинской губе-от не сподпустили их. А годов за тридесять до того мурманы гостили. Полтысяци так голов нагрянули морем. Пожгли монастырский погост на Варзуге-реке, потом на Двине разохотились – монахов николо-корельских да михайловских посекли, други погосты да сельцы разору предали. Двиняны у них две шняки отбили. Остатние незваные гости едва-от ноги за море унесли.
Оба воеводы Ушатые, сотенный голова Палицын и прочие вернулись на берег, где пристали лодьи, еще засветло. Митроха отстал в бору за валами и вернулся на руины. Иларька ясно дал знать, что нынче же ночью все решится меж ними, и место указал. Сабля была при себе, владеть ею дядька обучил воспитанника изрядно. А боярский сын Иларька Шебякин трус, распустеха и чванливый балобол. Одно слово – негораздок.
Митроха шел по кромке разбитой почти до подошвы стены, сторожась и прислушиваясь. В синей парче небес всплывал месяц-половинник. Изредка протяжно стонала ночная птица.
Что-то насторожило его. Не звук, не движенье, просто ухнуло сердце. Он бесшумно спустился на руках с края стены и притаился в тени с засапожником наготове. Если Иларька крадется как тать, не видать ему честного боя…
– Твой дружок не придет.
Митроха изумленно поднял кверху лицо. На стене возвышалась четко обрисованная лунным светом фигура.
– В прошлый раз нам помешали. Теперь можем продолжить наш разговор.
Митроха лихорадочно вспоминал его имя – Рок, Руск, Рогоз? Откуда он взялся? Плыл следом за лодейным караваном или прямо на котором-нибудь из насадов, взятых в поход? Но они и без того переполнены людьми.
– А где Иларька? – сумрачно спросил отрок.
– Я же говорил: тебе нужна сторожа. Он более не опасен.
– Где он?
– Он… ушел. Ты вылезешь оттуда или мне спуститься?
Митроха прошел вдоль стены к осыпавшемуся разлому и вскарабкался наверх.
– Чего тебе надо от меня, фрязин?
– Я Равк, а не фрязин. Ты не доверяешь мне. Это правильно. Ты не должен верить никому. Но мне можно. Я и мои братья служим тому, кто владеет знаком, который на тебе. Мы принесем тебе удачу. Вот тебе зарок: в Колмогорах у тебя будет свой дом, богатство, своя дружина из отборных воинов, самая красивая дева полюбит тебя. Ты будешь водить своих воинов в походы и всегда возвращаться с хорошей добычей. Ты победишь многих врагов…
Митроха слушал его вполуха. Он в оторопи смотрел за спину чужака и пытался совладать со скачущими от страха мыслями.
– Тебя это пугает? – усмехнулся клювоносый, оглянувшись через плечо. Месяц светил ему в лицо, а на разбитой стенной кладке позади не было тени. Он беззвучно спрыгнул на обломки стены внизу и слился с темнотой. Оттуда донеслось: – Когда буду нужен тебе, просто произнеси мое имя – Равк.
Митроха, глядя ему вслед, запоздало поднес руку ко лбу, сотворил крест. Долго стоял столбом, обмирая от жути. Потом быстро-быстро, оступаясь на шатких камнях, бездумно и бесчувственно зашагал по останкам новгородской стены. Уже находился недалеко от воротной башни крепости, где можно было спуститься и перебраться через ров. Внезапно нога потеряла опору и подвернулась. Митроха упал, расцарапав ладони о каменную крошку. Боль в ноге помешала сразу встать и идти дальше. Он решил переждать.
Расстегнул петлицы кафтана и ослабил ворот верхней рубахи. Вытянул из-за пазухи гривну. Цепочка по всей длине была обмотана полотнищем, чтобы не привлекать ничьих глаз. Сама гривна, извлеченная на лунный свет, взыграла тусклым зеленоватым сияньем.
Если мать рассказывала верно, ничего не перепутав и не забыв, золотая гривна переходила в их роду от отца к сыну без малого век. А первым ее обладателем был боярский сын Григорий Хабар. Но откуда она взялась и что означает – то неведомо. Хранили ее в великом обереженьи и тайне. Зимой, замыслив побег из Торжка, Митроха выкрал гривну из потайной скрыни. С тех самых пор, как узнал о ней, он считал ее ратным оберегом. Его отец, или тот, кого считают таковым, отверг воинскую дворянскую службу, надев рясу чернеца. Митрофан был намерен не только преуспеть в дворянском звании, но и преумножить старинную честь рода, выбиться в служильцы государева двора, стать заметным для самого великого князя, получить, если доведется, придворный чин. Это было непросто. Москва, в которой и своей знати хватало вдоволь, нынче полнилась всякого рода пришлыми из былых уделов князьями, князьцами, княжатами, боярами и боярскими детьми. Их не просто много, а через край много, как грязи по осени.
Но золотой княжеской тамги ни у кого из них нет, даже у думных бояр. Ни сам Хабар, ни дед, ни отец не сумели ею воспользоваться. В ней – тайна. Он, Митрофан, сумеет оседлать судьбу и понудит ее мчать в нужную сторону. Кому и когда в его невеликих летах приходило на ум начинать служить? На государеву службу шли с пятнадцати годов. А ему многое предстоит совершить, и приступать надо раньше.
Он поворачивал кругляш, рассматривая давно запечатленные в памяти изображения и значки. Одну сторону целиком занимал крест, концы его поперечин были загнуты посолонь. В окошках между перекладинами кто-то когда-то процарапал кривые линии, мелкие рисунки и славянские буквы: СКЛЗЛТББН. На другой стороне вверху скакал олень с ветвями рогов, почти легшими ему на спину. Внизу бежал зверь, похожий на волка; на нем сидел человек в длинном кафтане, с продолговатым щитом в руке.
Отрок похолодел от внезапной догадки. Равк, или как его там, сказал, что он – раб гривны и служит ее хозяину. Отчего же он, Митроха, решил, будто и дед, оставивший голову на плахе, и отец, ни с того ни с сего постригшийся в чернецы, и даже прадед, чья судьба – страньше странного… не знали ее тайны?! Что они не прошли через искушение ею?
Он спрятал кругляш под одежду, плотно запахнул кафтан. Его пробрал озноб. Ночи на севере в середине мая еще дышат зимней промозглостью.
Боль в ноге затихала. Митрофан доковылял до остатков башни. Здесь, как нарочно, стена разрушилась так, что образовала подобие каменной лестницы. Он спустился к валу, на котором были возведены стены крепости, миновал обвалившийся воротный проем башни. Здесь ров пересекала, будто мост, слежавшаяся груда битого камня. Митроха дошел до его середины, когда из-за облака снова выглянул месяц.
На самом дне рва с остатками двинской полой воды, среди глыб стенной кладки лежал мертвый Иларька Шебякин. Митроха присел на корточки, рассматривая его. Поломанное тело неестественно изогнулось, голова была вывернута круто вбок.
Отрок усилием заставил себя оторвать взгляд от мертвеца, встать и пойти. Через ров, сквозь тревожный ночной лес на склоне горы, к берегу реки и лодейному становищу, к горящим кострам и спящим людям. Завтра с утра станут искать пропавшего боярского сына, и тогда он скажет, где видел его. А сейчас нельзя думать ни об этом, ни обо всем остальном.
Иларька виноват сам.
* * *
…После Орлеца Двина словно обессилевала и уже не имела мочи покрыть водами все пространство, объятое ею. Даже от Пинеги, добавлявшей свои воды, не было ей помощи. Река разбивалась на протоки, по местному – курьи, и обтекала пространные, населенные людом острова. Горы тут и впрямь были – и зеленые холмы, и крутые обрывы матерой земли. Сами Колмогоры растянулись вдоль рукава Курополки на несколько верст, окружились островными и береговыми посадами. Один на всех был только колмогорский великий торг, чья слава дошла до Москвы еще сто лет назад.
Митроха в первый же свободный день отправился знакомиться с богатствами полуночных земель, которые свозили на торг купцы и промысловые люди. Торг был не похож на московский. Ни рядов, ни прилавков, ни глоткодеров-зазывал. Все негромко, деловито, чинно. Ярусы бочек с соленой рыбой, бочки с жиром морского зверя, бочки со смолой, возы рыбьего зуба, возы с меховой рухлядью и кожами, груды кусковой слюды, короба с мелким разноцветным речным жемчугом, который купцы в охотку пускали из горстей шелестящими струями. Все в таких количествах, что если розницей торговать – до второго пришествия не управиться. Низовские и редкие заморские гости обговаривали сразу большие купли и тут же везли товар на свои лодьи и шняки либо в колмогорские лабазы на гостином дворе.
У воевод тем временем свои заботы. Двинские охочие люди зачислялись в рать – насчитали больше пяти сотен. За ними объявился отряд с берегов Ваги в две сотни голов. Двинян, важан и половину устюжан решено было отправить наперед – не морем, а берегом до Онеги и других поморских сел, где ползимы и всю весну по указу великого князя корабельщики шили малые суденки – карбаса. Ратные должны были садиться там в эти карбасы и плыть ввиду берегов до устья реки Кемь. Остальным – идти на устюжских насадах из двинского устья до корельского берега, в ту же Кемь.
– В нужном ли числе будут карбасы, Акинфий Севастьяныч?
Князь Петр Федорович Ушатый восседал за трапезой не во главе стола, уступив место по старшинству чина московскому знакомцу, окольничему Андрею Тимофеевичу Головину. Встретились нежданно в Колмогорах, не ведая о том, какие труды возложил на каждого великий князь. Головин держал путь на Двину от Новгорода, куда с осени отбыл государь для войны со свеями. Плавать московским послам через Варяжское море стало нынче невозможно, зато ход по Студеному морю в Данию, куда направлялось посольство, был чист. Пускай гораздо длинен и тяжек, однако надежен от посягновений свейских немцев. Плохо лишь то, что сразу нельзя сесть на лодью – надо ждать, когда чахлое северное лето разойдется и выгонит полуденными ветрами весь лед из моря.
– На двухтысяцну рать потребно сотню карбасов. В Онеге, да в Сороцке волостке, да в Шуеречком, да в самой-от Кемске корабельщики ноне рук не спокладат. Быват, не подведем государя-то.
Колмогорский боярский сын Истратов, в чьем доме остановились князья-воеводы, был природный новгородец, а новгородца всегда можно узнать по его речи с цоканьем, оканьем и прочим кривозвучием, нелепым на слух московского жителя. На Москве их так и звали – цокалки.
– Тамошни корельски вожи, цто по рекам войско поведут до Каяни, у кемскова головы теперь на дворе-от сидят, дожидаюцца.
– А что, Петруша, веришь ли ты сему новгородскому обдувалу? – облизывая пальцы от свиного жира, осведомился Головин. – Он ведь, мыслю, новгородскую свою честь втайне блюдет. А что есть новгородская честь? Москву вкруг пальца обвесть да латинам вовремя подмигнуть. Я, чаю, он своего человечка которого-нибудь уже давно-о на Каянь спроворил с весточкой: ждите, мол, московских сиволапов. И мне дырявые лохани подсунет для посольского плаванья.
– Я, господине, никаку досаду Москве ввек не уцинил и наперед-от не стану, – помрачнел Истратов. – Государь-князь мне это дело сам вверил, грамоту с указом могу всем, кто захоцет, объявить.
– Ввек не уцинил, – передразнил его окольничий. – А родитель-то твой в посадниках на новгородском вече сиживал. От наказания же за свои измены сбег со всем своим домом на Студеное море.
– Не тревожь родителеву память, господине. Вся имения наша в государеву казну пошли, тем и наказаны-от. Поперву и я не хотел московску службу править, на низовско поместье садицце, как процие, кого со старинных мест свели да на новое житье водворили. В том вся моя измена, и за нее споплатился.
– То верно, господа мои, – вставил слово подьячий посольства Григорий Истома, посаженный в дальнем конце и более слушавший, чем угощавшийся. – В недавних временах, года четыре эдак, сам ту бумагу в приказной избе перебелял. Слово в слово государеву укоризну запомнил. Господин Истратов бил челом великому князю, чтоб ему в городские служилые люди поверстаться, потому как одумался он и вину свою признал. Князь же великий повелел ему зваться оттоле колмогорским посадским тяглецом и оружия на себе никакого не носить. По досельной службе и честь – так писано было.
– Дородна посадская чернь в Колмогорах, – крякнул удивленно Головин, – хоромы себе боярские ставит, соляными варницами богатится. Что ж князь великий, отошел разве от своей немилости, званье тебе вернул? Москва-то отсель далеко, много ль оттуда видно. Гляди, шпынь новгородский, веры тебе от меня нет никакой. Коли утопишь посольство государево в вашем чертовом море, тебя как изменщика без замедления посадят за приставы.
– Полно тебе, Андрей Тимофеич. – Воевода Ушатый слушал весь разговор с кислым, как немецкое вино на столе, выражением. – Что ты собачишься, уж помилуй за резкое слово. Я тебе запросто, без чинов, так скажу: государь Иван Васильевич для того и собирает русские земли, чтоб не было впредь ни московских, ни новгородских, ни тверских, а были б одни люди русские, христианские, заодин живущие. Твои же речи обратно, в старинную болотину тянут, откуда мы едва вылезли. Ведомо мне про этого боярского сына. Вернул ему государь служилое звание. А ежели он свое дело худо исполнит, какая ему и детям его от того корысть? Три года тому послы Ларев и Зайцев из датской стороны тем же путем через Мурманский Нос возвращались – на истратовских лодьях.
– Цто веры мне нет – то я уже слышал, – со сдержанной горечью добавил Истратов. – Сказано раз – и ладно. Один раз дорог, не надо сорок. Луччего кормщика на посольски корабелки тебе, господине, подрядил.
– А для какой же надобности истратовские лодьи ошивались в тех латынских местах? – осведомился Головин.
– Сыпь в Норвегу возили, – ответил новгородец. – Зерно.
– Торговля? – Окольничий удивленно задумался. – Не слыхал, чтоб из Колмогор торговый путь до немцев лежал.
– Лучше расскажи, Акинфий, – молвил князь Петр, – не заходят ли к поморским берегам свейские корабли? Может, бывают возле Мурмана? Нынче мы со свеями крепко воюем, как бы они нам с этой стороны дурна не учинили. Поберечься бы. В прошлые-то времена, когда на здешних землях новгородская господа государила, как бывало?
– Всяко цто бывало. Да давнёхо ни свеев, ни мурман не видали. Свейски-то бусы и шняки полста лет тому новгородчи со своих лодий побили, ко Двинской губе-от не сподпустили их. А годов за тридесять до того мурманы гостили. Полтысяци так голов нагрянули морем. Пожгли монастырский погост на Варзуге-реке, потом на Двине разохотились – монахов николо-корельских да михайловских посекли, други погосты да сельцы разору предали. Двиняны у них две шняки отбили. Остатние незваные гости едва-от ноги за море унесли.