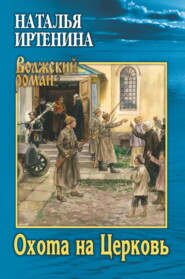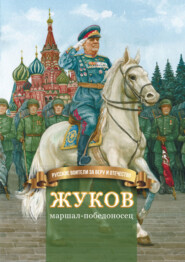По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русь на Мурмане
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вон из моего дома!
Негромко произнесенные слова хлестнули отрока точно конской плеткой. Он смотрел на кормильца, удивленно открыв рот. Не верил услышанному.
– Я пять лет воспитывал тебя как родню, но коль сам называешь себя ублюдком… Вот тебе Бог и вот порог. Ступай вон. На Москве нынче, при государе, много княжья стало, как осы на мед летят. Авось найдешь того, кто пожелает с тобой родством и именем поделиться.
Дядька был желчен и язвил отрочью душу глубоко, не щадя. Митроха никогда не видал его таким. Он испугался.
Ноги ослабели и сами уронили его на колени, развернув к образам. Отрок истово перекрестился.
– Господи, соблюди душу мою и жизнь мою от поруганья! Не ищу срама на свою голову и матерь свою не хочу бесславить. Отца моего, попа Досифея, спаси и помилуй, и на меня, грешного, призри милосердно! Внуши дядьке Ивану, чтоб взял меня на рать, чтобы мне выслужить назад отцово поместье!..
Палицын долго не рушил молчание, и Митроха не решался встать с колен, взглянуть на дядьку.
– Собирайся. Завтра до свету выступаем.
Отрок выдохнул и поднялся.
– Поедешь в обозе. Коня лишнего у меня нет для тебя. От Устюга по весне поплывем на лодьях до Студеного моря. Далее через корельские глухие леса да болота пробираться станем… Как знать, – добавил Иван Никитич с сомнением, – может, доведется узнать о твоем прадеде Григорье Хабаре. Для чего он голову сложил на том море, где преисподняя близко. А о поместье вашем… коли даст Господь живым вернуться, потолкую с князем Петром.
– Дядька… – Глаза Митрохи заблестели благодарным восторгом. – Вот ежели б ты был моим отцом… Как бы я слушал тебя! … Из воли твоей ни на волос никогда б не вышел!..
– Довольно об этом! – отрезал кормилец. Однако было заметно, что он уже нисколько не сердит. – Поглядим, впрочем, как будешь слушаться.
Прежде чем броситься укладывать в обоз все потребное для дальнего похода, Митрофан распугал в детской светелке мамок и нянек, усадил себе на загривок зевающего Афоньку и промчал его по всему дому, радостно игогокая. Афонька осоловело ликовал.
2
Устюг, что стоит у слияния трех северных рек, не похож ни на один другой город привольной Руси. Здешние люди будто не на земле живут, а на воздусях. Ни к чему не прикипают, ни к дому, ни к делу, а живут тем, что взбредет в голову. В торговый ли путь снарядятся, в югру или на пермь подадутся за меховым прибытком, пограбить ли кого поплывут. А то просто лежат на печи, жуют калачи. От князя или от Бога дела для себя ждут, думами приваживают. От беса тоже могут дельце прихватить.
Митроха с первых дней разглядел устюжан – народ хитрый, разбойный, алчущий. Верно, в одной бочке когда-то солили новгородских ушкуйников и устюжских охочих людей. Но ушкуйников следы истребились от московской крепкой досады на них, а устюжане – вот они, служат государю князю, дают ему, когда нужно, рать, не спрашивая даже, куда идти – на югру ли, на вятчан, на Каянь… А где та Каянь? Говорят – у Каяно-моря, что лежит между свейскими варягами и корелами. Там, где на семи рыбных реках живет корельский народец, некогда отдавшийся под руку Новгорода и плативший ему дань. А после перекинувшийся к свеям.
Поп Кузьма, шедший с московской ратью для духовного окормления, осерчал на устюжские нравы и обозвал город вторым Содомом. Митроха плохо представлял, чем так досаден был первый Содом, но прозвище понравилось. Да и сам город пришелся ему по душе – своей бесприютностью под седым небом, бездумностью и легкостью, и оттого – вольною волей. Своими кривыми улицами, способными перекривить московские переулки. Даже тем, как грозно набухал синевой апрельский лед на реке Сухоне, обещая однажды пушечным громом и великим треском открыть двинские ворота в полуночный север, на край земли…
Окно большого амбара на когда-то княжьем дворе распахнулось. В серые сумерки высунулась молодецкая голова и заблажила петелом:
– Ку-ка-ре-ку!
Внутри, за окном, ржали молодые мужские глотки. Служильцы играли в кости, ведя подсчеты за несколько бросков на брата. Проигравший становился дураком и должен был дурить загодя придуманным способом: зацеловать в губы старую полуслепую стряпуху, перепачкать рожу углем и пробраться в баню, где нынче парились дворовые девки, перепугать их чертом; залезть на кровлю амбара и обругать во весь голос попа Кузьму.
В амбаре духмяно от скученного житья ратников, развешаны порты, рубахи и ножные обмотки, валяются кафтаны и кожухи, чадят светильники, кисло пахнет бражкой. Подворье еще на исходе зимы занял отряд боярских детей под началом князя Ивана Ляпуна Ушатого. Сотня Ивана Палицына расселилась по окрестным дворам и точно так же сохла от безделья. У «ушатых» всегда было веселее.
Митроха стиснул в кулаке предательские кости, снова выдавшие ему две дырки от бублика. Проиграл. Его черед дурковать. Задачу на сей раз измыслили хитрую: надо было преобразиться в устюжского блаженного Иванушку, помершего два года назад, и проскакать на своих двоих округ подворья с несусветными юродивыми воплями. Поелику тот Иван-дурак не иначе всегда передвигался, как скоком. Устюжские служильцы, придумавшие забаву, уверяли к тому же, будто блаженный спал в печи на тлеющих угольях и исцелил дочку устюжского наместника от беснования.
– Чего сидишь, Мотря, скидывай одежу.
– Зачем? – хмурился отрок.
– Тот наш юрод только срам обмоткой прикрывал, а зимой в одном драном зипуне ходил.
Митроха швырнул на стол кости, встал и перешагнул через лавку.
– Не буду!
– Что ты как девка целковая ломаешься? – поддели устюжские.
– А точно девка, – догадал боярский сын из палицынской сотни Иларька, всего четырьмя годами старший Митрохи, злющий и завистливый, мечтавший оттереть его с места походного постельничего при сотенном голове. – Ни разу не видал его телешом иль в исподнем. Он и в бане со всеми не был. А ну, господа мои други, пощупаем-ка его!
Митроха не успел опомниться, как на него насели впятером, стали тянуть через голову зипун. Оставшись в рубахе и вертясь ужом, он очутился на полу, меж пятью парами ног. Дотянулся до сапога, где был нож.
– Прочь, зверье! – рычал отрок, вслепую нанося удары.
Ему засветили по уху, раскровянили нос, но отобрать засапожник не смогли. Орал Иларька, зажимая рану на предплечье. Один из устюжских удивленно рассматривал свои располосованные порты. Митроха, как мельничным крылом, размахивал рукой с ножом. На драку сбежалось еще десятка полтора ратных.
– Не девка, – просопел второй устюжский детина, тоже задетый.
– А кто ж Иванушкой пойдет блажить? – озабоченно спросил не участвовавший в бою Онька, дружок и подпевала Иларьки.
– Убью-у-у, Мотря! – тонко выл тот, обнимая длань с кровенеющим рукавом. – Удавлю гаденыша!
Утерши нос, Митроха поднялся с пола. Сорвал с пояса плоскую черную калиту, швырнул Оньке.
– Ты пойдешь. Там плата. – Ощерившись, обводил всех злым волчьим взглядом. – Если кто еще назовет меня Мотрей или сопляком… – Он удостоил взором подранка, убрал нож в сапог и отчеканил: – Я – князь! Звать меня – Митрий.
Тем временем Онька изучал содержимое калиты, вывалив на ладонь. Это был серебряный складень тонкой работы с двумя ликами – Христа и Богоматери. Онька развернул кожаную витую тесемку складня и повесил себе на шею.
– Я согласен, – изумленно сказал он.
Митроха подобрал брошенный зипун, нашел свою шапку, с гвоздя в стене снял епанчу, обвалив другие. Не глядя ни на кого, пошагал вон из жилища. Перед ним молча расступались, а вслед ему вертели пальцем у лба.
Распутная весенняя грязь чавкала под ногами, как чревоугодник за обильным столом. По обочинам еще серели просевшие валы снега, давая ввечеру достаточно света, чтобы видеть вокруг. Привычным путем, меж чернеющих покосившихся тынов, Митроха шел к крутояру, под которым вольною северной дорогой стелилась Сухона. Пока еще скованная, но готовая вот-вот сломать свои узы. Пустое сиденье в Устюге, тоже схожее с узилищным заточеньем, отрок сносил со все большим нетерпеньем.
Оно, конечно, у начальных людей войска дел невпроворот. Шутка ли – снарядить судовую рать в два десятка лодий. В Устюге насадов, плававших до моря, до Вологды и на Сольвычегодск, было и больше, не говоря о малых суденках. Но все были торговые, а купцы не горели охотой отдавать их в государеву службу – выговаривали у князя Петра Федоровича корысть, бились за каждого судового вожа, знающего реку. Устюжского войска набиралось шесть сотен человек, да пермичи прислали две с половиной сотни. Устроили им после Пасхи смотр с утверждением сотенных голов из бывалых московских боярских детей. В иные дни даже Митроха редко забегал в дом похлебать горячего – дядька Иван Никитич гонял с поручениями.
Но все то время до сладостного замирания в груди толклось на сердце манящее слово – Колмогоры. Какие там горы, у самого Студеного моря – как на иконах пишут или лучше, веселее? И как выглядит оно – море? И отчего прозывается Дышущим? Впрямь ли дышит?..
Он вдруг подумал о серебряном складне, отданном в откуп Оньке. Ему дала этот складень посадская женка в Ростове. Пришла к сотенному голове Палицыну с просьбой отыскать на Соловецком острове в Студеном море ее сына, но Ивана Никитича не дождалась. Рать наутро отправлялась в путь, и женка кинулась с мольбой к Митрохе. Верно, приглянулся ей чем-то. Либо сына напомнил. Заклинала, чтоб непременно разыскал в монастыре на острове ее Фединьку и передал ему матернее благословение – складень с образами. Сам Фединька, сказывала, ушел из дому три лета назад тайно, поперек родительской воли. Два года женка проплакала, а на третий решила – раз уж быть сыну чернецом на неведомом острову и раз Господь не вернул его обратно, то пускай его там хранит и согревает материно благословение. Только все не знала, с кем передать. Но тут сам Бог послал московскую рать. Наружность Фединьки женка описала подробно.
– А ростом он с тебя, сынка, и годами почти ровня, постарше чуток. Шестнадцатый ему теперь пошел. Три года кровиночку не видела… – Женка расхлюпалась, но утерла слезы. – Так ты смотри, передай, Митрофан! Христом Богом заклинаю. Не потеряй, не прокути, слышишь? А не передашь – проклятье мое понесешь. Материнское проклятье оно знаешь какое? На болотном дне достанет!
Угрозы женки Митрохе были что пустое место. Но передать складень обещался. Если, конечно, сыщет этого дурня Федьку, сбежавшего в монахи.
Теперь, выходит, не передаст и ростовского глуподыра искать незачем.
Сам Митроха о своем доме в Торжке, о горюющей по нем матери не вспоминал и без благословения ее не пропадал. Потому рука не дрогнула, когда бросала складень Оньке…
Он не заметил, как на безлюдной кромке высокого устюжского гляденя, откуда при свете дня открывался бескрайний простор, появился кто-то еще.
– Теперь они не оставят тебя, пока не добьются твоего униженья. А тот, который поклялся тебя убить…
Негромко произнесенные слова хлестнули отрока точно конской плеткой. Он смотрел на кормильца, удивленно открыв рот. Не верил услышанному.
– Я пять лет воспитывал тебя как родню, но коль сам называешь себя ублюдком… Вот тебе Бог и вот порог. Ступай вон. На Москве нынче, при государе, много княжья стало, как осы на мед летят. Авось найдешь того, кто пожелает с тобой родством и именем поделиться.
Дядька был желчен и язвил отрочью душу глубоко, не щадя. Митроха никогда не видал его таким. Он испугался.
Ноги ослабели и сами уронили его на колени, развернув к образам. Отрок истово перекрестился.
– Господи, соблюди душу мою и жизнь мою от поруганья! Не ищу срама на свою голову и матерь свою не хочу бесславить. Отца моего, попа Досифея, спаси и помилуй, и на меня, грешного, призри милосердно! Внуши дядьке Ивану, чтоб взял меня на рать, чтобы мне выслужить назад отцово поместье!..
Палицын долго не рушил молчание, и Митроха не решался встать с колен, взглянуть на дядьку.
– Собирайся. Завтра до свету выступаем.
Отрок выдохнул и поднялся.
– Поедешь в обозе. Коня лишнего у меня нет для тебя. От Устюга по весне поплывем на лодьях до Студеного моря. Далее через корельские глухие леса да болота пробираться станем… Как знать, – добавил Иван Никитич с сомнением, – может, доведется узнать о твоем прадеде Григорье Хабаре. Для чего он голову сложил на том море, где преисподняя близко. А о поместье вашем… коли даст Господь живым вернуться, потолкую с князем Петром.
– Дядька… – Глаза Митрохи заблестели благодарным восторгом. – Вот ежели б ты был моим отцом… Как бы я слушал тебя! … Из воли твоей ни на волос никогда б не вышел!..
– Довольно об этом! – отрезал кормилец. Однако было заметно, что он уже нисколько не сердит. – Поглядим, впрочем, как будешь слушаться.
Прежде чем броситься укладывать в обоз все потребное для дальнего похода, Митрофан распугал в детской светелке мамок и нянек, усадил себе на загривок зевающего Афоньку и промчал его по всему дому, радостно игогокая. Афонька осоловело ликовал.
2
Устюг, что стоит у слияния трех северных рек, не похож ни на один другой город привольной Руси. Здешние люди будто не на земле живут, а на воздусях. Ни к чему не прикипают, ни к дому, ни к делу, а живут тем, что взбредет в голову. В торговый ли путь снарядятся, в югру или на пермь подадутся за меховым прибытком, пограбить ли кого поплывут. А то просто лежат на печи, жуют калачи. От князя или от Бога дела для себя ждут, думами приваживают. От беса тоже могут дельце прихватить.
Митроха с первых дней разглядел устюжан – народ хитрый, разбойный, алчущий. Верно, в одной бочке когда-то солили новгородских ушкуйников и устюжских охочих людей. Но ушкуйников следы истребились от московской крепкой досады на них, а устюжане – вот они, служат государю князю, дают ему, когда нужно, рать, не спрашивая даже, куда идти – на югру ли, на вятчан, на Каянь… А где та Каянь? Говорят – у Каяно-моря, что лежит между свейскими варягами и корелами. Там, где на семи рыбных реках живет корельский народец, некогда отдавшийся под руку Новгорода и плативший ему дань. А после перекинувшийся к свеям.
Поп Кузьма, шедший с московской ратью для духовного окормления, осерчал на устюжские нравы и обозвал город вторым Содомом. Митроха плохо представлял, чем так досаден был первый Содом, но прозвище понравилось. Да и сам город пришелся ему по душе – своей бесприютностью под седым небом, бездумностью и легкостью, и оттого – вольною волей. Своими кривыми улицами, способными перекривить московские переулки. Даже тем, как грозно набухал синевой апрельский лед на реке Сухоне, обещая однажды пушечным громом и великим треском открыть двинские ворота в полуночный север, на край земли…
Окно большого амбара на когда-то княжьем дворе распахнулось. В серые сумерки высунулась молодецкая голова и заблажила петелом:
– Ку-ка-ре-ку!
Внутри, за окном, ржали молодые мужские глотки. Служильцы играли в кости, ведя подсчеты за несколько бросков на брата. Проигравший становился дураком и должен был дурить загодя придуманным способом: зацеловать в губы старую полуслепую стряпуху, перепачкать рожу углем и пробраться в баню, где нынче парились дворовые девки, перепугать их чертом; залезть на кровлю амбара и обругать во весь голос попа Кузьму.
В амбаре духмяно от скученного житья ратников, развешаны порты, рубахи и ножные обмотки, валяются кафтаны и кожухи, чадят светильники, кисло пахнет бражкой. Подворье еще на исходе зимы занял отряд боярских детей под началом князя Ивана Ляпуна Ушатого. Сотня Ивана Палицына расселилась по окрестным дворам и точно так же сохла от безделья. У «ушатых» всегда было веселее.
Митроха стиснул в кулаке предательские кости, снова выдавшие ему две дырки от бублика. Проиграл. Его черед дурковать. Задачу на сей раз измыслили хитрую: надо было преобразиться в устюжского блаженного Иванушку, помершего два года назад, и проскакать на своих двоих округ подворья с несусветными юродивыми воплями. Поелику тот Иван-дурак не иначе всегда передвигался, как скоком. Устюжские служильцы, придумавшие забаву, уверяли к тому же, будто блаженный спал в печи на тлеющих угольях и исцелил дочку устюжского наместника от беснования.
– Чего сидишь, Мотря, скидывай одежу.
– Зачем? – хмурился отрок.
– Тот наш юрод только срам обмоткой прикрывал, а зимой в одном драном зипуне ходил.
Митроха швырнул на стол кости, встал и перешагнул через лавку.
– Не буду!
– Что ты как девка целковая ломаешься? – поддели устюжские.
– А точно девка, – догадал боярский сын из палицынской сотни Иларька, всего четырьмя годами старший Митрохи, злющий и завистливый, мечтавший оттереть его с места походного постельничего при сотенном голове. – Ни разу не видал его телешом иль в исподнем. Он и в бане со всеми не был. А ну, господа мои други, пощупаем-ка его!
Митроха не успел опомниться, как на него насели впятером, стали тянуть через голову зипун. Оставшись в рубахе и вертясь ужом, он очутился на полу, меж пятью парами ног. Дотянулся до сапога, где был нож.
– Прочь, зверье! – рычал отрок, вслепую нанося удары.
Ему засветили по уху, раскровянили нос, но отобрать засапожник не смогли. Орал Иларька, зажимая рану на предплечье. Один из устюжских удивленно рассматривал свои располосованные порты. Митроха, как мельничным крылом, размахивал рукой с ножом. На драку сбежалось еще десятка полтора ратных.
– Не девка, – просопел второй устюжский детина, тоже задетый.
– А кто ж Иванушкой пойдет блажить? – озабоченно спросил не участвовавший в бою Онька, дружок и подпевала Иларьки.
– Убью-у-у, Мотря! – тонко выл тот, обнимая длань с кровенеющим рукавом. – Удавлю гаденыша!
Утерши нос, Митроха поднялся с пола. Сорвал с пояса плоскую черную калиту, швырнул Оньке.
– Ты пойдешь. Там плата. – Ощерившись, обводил всех злым волчьим взглядом. – Если кто еще назовет меня Мотрей или сопляком… – Он удостоил взором подранка, убрал нож в сапог и отчеканил: – Я – князь! Звать меня – Митрий.
Тем временем Онька изучал содержимое калиты, вывалив на ладонь. Это был серебряный складень тонкой работы с двумя ликами – Христа и Богоматери. Онька развернул кожаную витую тесемку складня и повесил себе на шею.
– Я согласен, – изумленно сказал он.
Митроха подобрал брошенный зипун, нашел свою шапку, с гвоздя в стене снял епанчу, обвалив другие. Не глядя ни на кого, пошагал вон из жилища. Перед ним молча расступались, а вслед ему вертели пальцем у лба.
Распутная весенняя грязь чавкала под ногами, как чревоугодник за обильным столом. По обочинам еще серели просевшие валы снега, давая ввечеру достаточно света, чтобы видеть вокруг. Привычным путем, меж чернеющих покосившихся тынов, Митроха шел к крутояру, под которым вольною северной дорогой стелилась Сухона. Пока еще скованная, но готовая вот-вот сломать свои узы. Пустое сиденье в Устюге, тоже схожее с узилищным заточеньем, отрок сносил со все большим нетерпеньем.
Оно, конечно, у начальных людей войска дел невпроворот. Шутка ли – снарядить судовую рать в два десятка лодий. В Устюге насадов, плававших до моря, до Вологды и на Сольвычегодск, было и больше, не говоря о малых суденках. Но все были торговые, а купцы не горели охотой отдавать их в государеву службу – выговаривали у князя Петра Федоровича корысть, бились за каждого судового вожа, знающего реку. Устюжского войска набиралось шесть сотен человек, да пермичи прислали две с половиной сотни. Устроили им после Пасхи смотр с утверждением сотенных голов из бывалых московских боярских детей. В иные дни даже Митроха редко забегал в дом похлебать горячего – дядька Иван Никитич гонял с поручениями.
Но все то время до сладостного замирания в груди толклось на сердце манящее слово – Колмогоры. Какие там горы, у самого Студеного моря – как на иконах пишут или лучше, веселее? И как выглядит оно – море? И отчего прозывается Дышущим? Впрямь ли дышит?..
Он вдруг подумал о серебряном складне, отданном в откуп Оньке. Ему дала этот складень посадская женка в Ростове. Пришла к сотенному голове Палицыну с просьбой отыскать на Соловецком острове в Студеном море ее сына, но Ивана Никитича не дождалась. Рать наутро отправлялась в путь, и женка кинулась с мольбой к Митрохе. Верно, приглянулся ей чем-то. Либо сына напомнил. Заклинала, чтоб непременно разыскал в монастыре на острове ее Фединьку и передал ему матернее благословение – складень с образами. Сам Фединька, сказывала, ушел из дому три лета назад тайно, поперек родительской воли. Два года женка проплакала, а на третий решила – раз уж быть сыну чернецом на неведомом острову и раз Господь не вернул его обратно, то пускай его там хранит и согревает материно благословение. Только все не знала, с кем передать. Но тут сам Бог послал московскую рать. Наружность Фединьки женка описала подробно.
– А ростом он с тебя, сынка, и годами почти ровня, постарше чуток. Шестнадцатый ему теперь пошел. Три года кровиночку не видела… – Женка расхлюпалась, но утерла слезы. – Так ты смотри, передай, Митрофан! Христом Богом заклинаю. Не потеряй, не прокути, слышишь? А не передашь – проклятье мое понесешь. Материнское проклятье оно знаешь какое? На болотном дне достанет!
Угрозы женки Митрохе были что пустое место. Но передать складень обещался. Если, конечно, сыщет этого дурня Федьку, сбежавшего в монахи.
Теперь, выходит, не передаст и ростовского глуподыра искать незачем.
Сам Митроха о своем доме в Торжке, о горюющей по нем матери не вспоминал и без благословения ее не пропадал. Потому рука не дрогнула, когда бросала складень Оньке…
Он не заметил, как на безлюдной кромке высокого устюжского гляденя, откуда при свете дня открывался бескрайний простор, появился кто-то еще.
– Теперь они не оставят тебя, пока не добьются твоего униженья. А тот, который поклялся тебя убить…