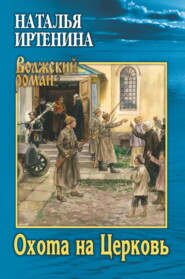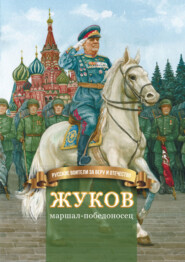По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русь на Мурмане
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Афонька встал на постели и ухватился за него.
– Играй в коняшку!
Бутуз принялся цокать языком, понукая воображаемого скакуна. Повис на Митрохе, оттягивая рубаху. Отрок схватил его за руку и резко сбросил на пол.
– Пускай отец на настоящего коня тебя сажает, а не мне на шею. Пора уже.
Самому Митрохе годов было не столь уж много, скоро переваливало за двенадцать. Но телом и силой возрос с пятнадцатилетнего, разве что голос еще не переломился на мужской.
Афонька ушибся носом и немедленно взревел. К нему на помощь кинулся пятилеток Никишка.
– Злой! Злой Трошка!
Федюнька насупился. Спрыгнул с ложа и поволок обоих братцев к клетской двери. Напоследок со всей шестилетней взрослостью посмотрел на обидчика.
– Тебя тоже волки поели, как Бархата. Ты нонеча волколак… А тятька на долгую рать идет. Сотенным головой! Теперь Афоню не скоро на коня посадят.
Воспитанник Палицына, растерявшись было от обличений сопливых глуздырей, укусил себя за губу. «Поход на каянский рубеж! Сотенным головой!» Сапоги, стоявшие у двери, сами прыгнули ему в руки и сами налезли на ноги. На плечи лег зипун из крашенины. Калач на столе, давно остывший, сам выскочил из рушника и запихнулся в рот. Жуя на ходу, Митроха полетел во двор. Первым делом – проведать Бархата.
…С конюшни он вышел пожухлый и скисший. Дядька Иван доверил ему красавца-коня, теперь же Бархата сошлют в деревню, на землю. Загнанный двухдневной скачкой, с прокушенными ногами, жеребец охромел и был обречен доживать свой век в униженьи. Митрохе было горько чувствовать собственную вину. Бархат спас его от волков, вынес из опасности, а он ничего не мог сделать. Ему просто дадут другого коня, и все забудется.
Все ли?..
Отрок огляделся. Залитый зимним слепящим солнцем двор был полон суеты. Дворские слуги грузили возы, холопы дочищали упряжь и оружие, сновали охающие бабы и зареванные, огрустневшие девки. С кузницы летел звон металла. Задиристо брехал пес Угоняйка, мешаясь у всех под ногами. Митроха остановил дворского:
– Где дядька Иван Никитич?
Палицын был в доме, давал наказы старшему над слугами Касьяну. Отрок увидел их на лестнице – поднимались во второй ярус.
– Дядька Иван!
Хозяин дома взглянул и тотчас отвернулся: не до тебя нынче.
– Возы проверил, крепки ли? Смотри, коли в пути хоть один развалится, голову сыму… Крупы нагрузил, сколько я велел?.. Корму коням?.. Вот что еще. Пошли сейчас человека к Кондыревым, пусть скажет Кириле Лексеичу, чтоб заутра пораньше выехал да ждал бы меня у Фроловских ворот для разговору. Вместе на молебен к Успенью отправимся…
– Дядька Иван! – Когда дело было горячо, Митроха становился липуч.
– Ладно, ступай. – Палицын отпустил дворского управителя. – Через час приготовь выезд на троих. Миньку и Гераську кликни. Проведаю князя Петра Федоровича. – Митрохе кивнул: – Идем в горницу.
Не успел Иван Никитич осесть на лавку и упереть руки в колена, как отрок пустился в опереженье, дабы кормилец не вспомнил про Бархата.
– Возьми меня на рать, боярин! Сабля моя тебе послужит против каянских немцев!
– С чего это ты в бояре меня записал? – отбил наскок дядька, не двинув и бровью. Только полукафтанье расстегнул слегка от печного тепла. – Государь великий князь меня таким жалованьем не жаловал. И скажи мне, Митрофан, знаешь ли ты хоть, где обитают оные каянские немцы?.. Да и сабля твоя маловата, подрасти б ей лет несколько. Уж не спрашиваю про то, где ты коня возьмешь для похода.
Как будто и легкие удары, но отрок сжался под ними, свесил голову.
– Знамо дело, где свейские немцы, там недалече и каянские…
– Ты зачем коня загубил, дурья башка? – оборвал его бормотанье Палицын. – Для чего из родительского дому раньше срока сбежал? Сказано тебе было: на Аксинью-полузимницу за тобой приедут.
Митроха осмелел и глядел на кормильца исподлобья.
– На Крещенье через Торжок до Новгорода проходили ратники воеводы князя Ивана Репни. От них прозналось, что великий князь посылает две рати, на свеев и на каян. Что на тех каян войско велено вести князьям Ушатым и тебе, дядька, с ними. Как же мне было терпеть до полузимницы, коли ты без меня бы ушел?
– Вестимо, без тебя бы и рать не сладилась, – усмехнулся дядька.
– Возьми!.. – взмолился отрок.
– Сказано: мал еще, подрасти. Даром что вымахал, а умом не поспел. Обузой будешь… Мать хоть упредил, когда сбегал?
Митроха молчал, мрачно уставясь в пол.
– Ясно. Опять же дурья голова. Отца-то проведал за все время?
– Если ты, дядька, спрашиваешь о черном попе Досифее, то не отец он мне.
Иван Никитич резко поднялся, шагнул к отроку. Тот, набравшись дерзости, прямо и бесстрашно смотрел на кормильца, как будто готового ударить.
– От своего рода отрекаешься?! – Хозяин дома сдержал руку, но гневом плеснул щедро. – Пащенком безродным захотел быть?
– А если я княжьего роду?! – отчаянно и гордо промолвил Митроха.
Палицын на миг остолбенел.
– От матери слышал или от кого иного?
– Ни от кого. Сам чую – непростая во мне кровь.
Отрок потянул руку к груди, будто хотел вынуть крест для клятвы, но лишь приложил ладонь к зипуну.
Кормилец отвернулся. Ушел к двери и прикрыл плотнее.
– Ты сейчас, в глаза мне, сказал, что твоя мать, Устинья Хабарова, потаскуха и прижила тебя неведомо от кого?
Митрофан взглянул растерянно – такого он не говорил. Иван Никитич крепко взял отрока за плечи и толкнул к божнице в углу с крохотным огоньком лампады красного стекла под образами. Придавил к полу, вынудив встать на колени. Сунул ему серебряный крест с кивота.
– Пред Христом и Матерью Божьей клянись, что ты сын своего отца, дворянина Данилы Хабарова, ныне священноинока Досифея! И прощенья проси у Пречистой за срамословие, за поношение матери!
Воспитанник вырвался из рук Палицына, вскочил.
– Не буду я поповским сыном! – выкрикнул зло. – Он сам свой род предал! Пращур Хабар боярским сыном был, в родстве с думными боярами при московском князе! Дед Михайла в дворянах числился да с боярами тесно знался. Когда те мятеж на Москве задумали, великий князь Василий велел ему на лобном месте голову срубить вместе с прочими… А мне… мне в попы?! Зачем он в монахи пошел, зачем? С убогого поместья служил, так и то в казну забрали. Дом в нищете оставил, меня… Сестру едва замуж выдали за посадского тяглеца…
Митроха подавился горечью, умолк, красный как лампада у икон.
– Бог судья твоему родителю. Он теперь живет иной жизнью, по иным законам. Но ты не смеешь врать, будто он не позаботился о тебе. Он привел тебя в мой дом и просил вскормить и взрастить тебя как воина, дворянина… Ну что ж, ты свое слово сказал.
Иван Никитич прошелся по горнице с удрученной думой на лице. Остановился.
– Играй в коняшку!
Бутуз принялся цокать языком, понукая воображаемого скакуна. Повис на Митрохе, оттягивая рубаху. Отрок схватил его за руку и резко сбросил на пол.
– Пускай отец на настоящего коня тебя сажает, а не мне на шею. Пора уже.
Самому Митрохе годов было не столь уж много, скоро переваливало за двенадцать. Но телом и силой возрос с пятнадцатилетнего, разве что голос еще не переломился на мужской.
Афонька ушибся носом и немедленно взревел. К нему на помощь кинулся пятилеток Никишка.
– Злой! Злой Трошка!
Федюнька насупился. Спрыгнул с ложа и поволок обоих братцев к клетской двери. Напоследок со всей шестилетней взрослостью посмотрел на обидчика.
– Тебя тоже волки поели, как Бархата. Ты нонеча волколак… А тятька на долгую рать идет. Сотенным головой! Теперь Афоню не скоро на коня посадят.
Воспитанник Палицына, растерявшись было от обличений сопливых глуздырей, укусил себя за губу. «Поход на каянский рубеж! Сотенным головой!» Сапоги, стоявшие у двери, сами прыгнули ему в руки и сами налезли на ноги. На плечи лег зипун из крашенины. Калач на столе, давно остывший, сам выскочил из рушника и запихнулся в рот. Жуя на ходу, Митроха полетел во двор. Первым делом – проведать Бархата.
…С конюшни он вышел пожухлый и скисший. Дядька Иван доверил ему красавца-коня, теперь же Бархата сошлют в деревню, на землю. Загнанный двухдневной скачкой, с прокушенными ногами, жеребец охромел и был обречен доживать свой век в униженьи. Митрохе было горько чувствовать собственную вину. Бархат спас его от волков, вынес из опасности, а он ничего не мог сделать. Ему просто дадут другого коня, и все забудется.
Все ли?..
Отрок огляделся. Залитый зимним слепящим солнцем двор был полон суеты. Дворские слуги грузили возы, холопы дочищали упряжь и оружие, сновали охающие бабы и зареванные, огрустневшие девки. С кузницы летел звон металла. Задиристо брехал пес Угоняйка, мешаясь у всех под ногами. Митроха остановил дворского:
– Где дядька Иван Никитич?
Палицын был в доме, давал наказы старшему над слугами Касьяну. Отрок увидел их на лестнице – поднимались во второй ярус.
– Дядька Иван!
Хозяин дома взглянул и тотчас отвернулся: не до тебя нынче.
– Возы проверил, крепки ли? Смотри, коли в пути хоть один развалится, голову сыму… Крупы нагрузил, сколько я велел?.. Корму коням?.. Вот что еще. Пошли сейчас человека к Кондыревым, пусть скажет Кириле Лексеичу, чтоб заутра пораньше выехал да ждал бы меня у Фроловских ворот для разговору. Вместе на молебен к Успенью отправимся…
– Дядька Иван! – Когда дело было горячо, Митроха становился липуч.
– Ладно, ступай. – Палицын отпустил дворского управителя. – Через час приготовь выезд на троих. Миньку и Гераську кликни. Проведаю князя Петра Федоровича. – Митрохе кивнул: – Идем в горницу.
Не успел Иван Никитич осесть на лавку и упереть руки в колена, как отрок пустился в опереженье, дабы кормилец не вспомнил про Бархата.
– Возьми меня на рать, боярин! Сабля моя тебе послужит против каянских немцев!
– С чего это ты в бояре меня записал? – отбил наскок дядька, не двинув и бровью. Только полукафтанье расстегнул слегка от печного тепла. – Государь великий князь меня таким жалованьем не жаловал. И скажи мне, Митрофан, знаешь ли ты хоть, где обитают оные каянские немцы?.. Да и сабля твоя маловата, подрасти б ей лет несколько. Уж не спрашиваю про то, где ты коня возьмешь для похода.
Как будто и легкие удары, но отрок сжался под ними, свесил голову.
– Знамо дело, где свейские немцы, там недалече и каянские…
– Ты зачем коня загубил, дурья башка? – оборвал его бормотанье Палицын. – Для чего из родительского дому раньше срока сбежал? Сказано тебе было: на Аксинью-полузимницу за тобой приедут.
Митроха осмелел и глядел на кормильца исподлобья.
– На Крещенье через Торжок до Новгорода проходили ратники воеводы князя Ивана Репни. От них прозналось, что великий князь посылает две рати, на свеев и на каян. Что на тех каян войско велено вести князьям Ушатым и тебе, дядька, с ними. Как же мне было терпеть до полузимницы, коли ты без меня бы ушел?
– Вестимо, без тебя бы и рать не сладилась, – усмехнулся дядька.
– Возьми!.. – взмолился отрок.
– Сказано: мал еще, подрасти. Даром что вымахал, а умом не поспел. Обузой будешь… Мать хоть упредил, когда сбегал?
Митроха молчал, мрачно уставясь в пол.
– Ясно. Опять же дурья голова. Отца-то проведал за все время?
– Если ты, дядька, спрашиваешь о черном попе Досифее, то не отец он мне.
Иван Никитич резко поднялся, шагнул к отроку. Тот, набравшись дерзости, прямо и бесстрашно смотрел на кормильца, как будто готового ударить.
– От своего рода отрекаешься?! – Хозяин дома сдержал руку, но гневом плеснул щедро. – Пащенком безродным захотел быть?
– А если я княжьего роду?! – отчаянно и гордо промолвил Митроха.
Палицын на миг остолбенел.
– От матери слышал или от кого иного?
– Ни от кого. Сам чую – непростая во мне кровь.
Отрок потянул руку к груди, будто хотел вынуть крест для клятвы, но лишь приложил ладонь к зипуну.
Кормилец отвернулся. Ушел к двери и прикрыл плотнее.
– Ты сейчас, в глаза мне, сказал, что твоя мать, Устинья Хабарова, потаскуха и прижила тебя неведомо от кого?
Митрофан взглянул растерянно – такого он не говорил. Иван Никитич крепко взял отрока за плечи и толкнул к божнице в углу с крохотным огоньком лампады красного стекла под образами. Придавил к полу, вынудив встать на колени. Сунул ему серебряный крест с кивота.
– Пред Христом и Матерью Божьей клянись, что ты сын своего отца, дворянина Данилы Хабарова, ныне священноинока Досифея! И прощенья проси у Пречистой за срамословие, за поношение матери!
Воспитанник вырвался из рук Палицына, вскочил.
– Не буду я поповским сыном! – выкрикнул зло. – Он сам свой род предал! Пращур Хабар боярским сыном был, в родстве с думными боярами при московском князе! Дед Михайла в дворянах числился да с боярами тесно знался. Когда те мятеж на Москве задумали, великий князь Василий велел ему на лобном месте голову срубить вместе с прочими… А мне… мне в попы?! Зачем он в монахи пошел, зачем? С убогого поместья служил, так и то в казну забрали. Дом в нищете оставил, меня… Сестру едва замуж выдали за посадского тяглеца…
Митроха подавился горечью, умолк, красный как лампада у икон.
– Бог судья твоему родителю. Он теперь живет иной жизнью, по иным законам. Но ты не смеешь врать, будто он не позаботился о тебе. Он привел тебя в мой дом и просил вскормить и взрастить тебя как воина, дворянина… Ну что ж, ты свое слово сказал.
Иван Никитич прошелся по горнице с удрученной думой на лице. Остановился.