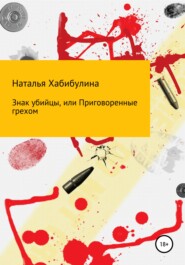По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джокер в пустой колоде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Рапсодия» Рейля – эта книга осталась еще от доктора Шнайдера, ему же принадлежали «Душевные болезни» Ризингера и вся подшивка немецкого журнала по нейрохирургии «Цайтшрифт фюр эрцтлих Фортбилдунг», а также «Неврологический вестник» дореволюционного издания. А вот руководство Краузе «Хирургия головного и спинного мозга», «Учебник по нейрохирургии» Тённис – Оливеркрона и «Опыт хирургического лечения некоторых форм психических заболеваний» Бабчина у Шаргина появились недавно. Ну, вся остальная литература уже узкоспециализированного направления по нашему профилю. – Хижин аккуратно расставил всё по местам. Калошин по-прежнему внимательно изучал корешки просмотренных ими книг. Потом задумчиво произнес:
– Вам не кажется, Борис Иванович, что начал интересоваться нейрохирургией сначала ваш незабвенный доктор Шнайдер, а Шаргин уже продолжил?
Хижин удивленно взглянул на майора:
– Действительно! Вы знаете, мне как-то не приходило это в голову. Странно, действительно, очень странно. – Но поразмыслив, сказал: – Впрочем, Шнайдер мог завещать свои незавершенные труды молодому коллеге, тем самым увлечь его. И тогда Шаргин продолжил исследования доктора.
– Значит, они должны были вести какие-то записи? Я правильно понимаю?
– Да-да, конечно, но после гибели Шаргина здесь ничего не оказалось. И сейф его был пуст. – Увидев вопросительный взгляд Калошина, поспешил добавить: – Там, конечно, были кое-какие финансовые документы, печать, разные бумаги, касающиеся работы клиники, и все.
– Но тогда оставалась здесь, как я понимаю, Кривец. Ведь она, судя по вашим словам, была в курсе всех работ Шаргина. Ее не спрашивали об этих записях?
Хижин только пожал плечами:
– Так ведь считалось, что я ничего не знаю. Поэтому мой вопрос вызвал бы, по меньшей мере, недоумение.
Калошин согласно покивал.
– Получается, – высказал он предположение, – что эти записи или уничтожила Кривец, или она же их передала другому участнику этого эксперимента, который остался неизвестен. Тогда можно предположить, что ваши опасения по поводу исчезновения женщины не беспочвенны.
Хижин по-бабьи обхватил руками лицо:
– Это ужасно! Ужасно! Значит, я был прав! – Калошин поспешил остановить стенания доктора: – Успокойтесь, Борис Иванович! Давайте продолжим наш разговор. – Тот согласно кивнул, а майор спросил его:
– Вы знаете, от чего умер Шнайдер?
– Банальный бронхит, только страшно запущенный. И, будучи сам врачом, он, практически, никогда не лечился. Да и возраст был уже немалый.
– Товарищ майор! – Доронин стоял у полки с журналами и перебирал стопки. – Обратите внимание, здесь все журналы по нейрохирургии (название не прочитаю сразу – немецкое) разложены строго по месяцам от первого до двенадцатого, а за 1939 год – один отсутствует. – Калошин подошел к нему, взглянул сначала на указанную стопку, потом на Василия:
– Дотошный ты! Молодец! За какой месяц журнал?
– Февральский. Спросить надо у хозяина кабинета. Может быть, и Борис Иванович знает, кто интересуется этими изданиями? – Доронин повернулся к слушающему их разговор Хижину.
– Да нет, я теперь крайне редко сюда захожу. Мы с коллегой поделили строго свои обязанности. Хозяйство, правда, осталось по-прежнему на мне, а вот основное заведование – это… – он удрученно развел руками.
Молодой врач на их вопрос ответил, что никогда не интересовался нейрохирургией, и журналы эти его не интересуют, во всяком случае, в данное время. Кроме него в кабинете никого не бывает, воспользоваться его отсутствием никто бы не смог. Журнал, скорее всего, отсутствовал уже до того, как он занял этот кабинет. Потом проводил оперативников с доктором в лабораторию Шаргина. Там царила стерильная чистота, но чувствовалось, что уже давно никто не пользовался этим помещением. Калошин с Дорониным осмотрели его насколько можно тщательно, обошли все углы, но ничего интересного для себя не обнаружили, с тем и удалились. На крыльце им опять встретилась Анна Григорьевна. Калошин попросил ее уделить им немного времени еще. Она охотно согласилась, хотя, видно было, что такое внимание к ее персоне несколько смущает женщину. Она попросила немного подождать, и, прихватив свой незамысловатый инструмент, удалилась. Хижин с разрешения Калошина пошел к своим больным, взяв слово с гостей, что они обязательно зайдут пообедать. Те с готовностью согласились и уютно устроились на скамье под кустами сирени. Осеннее солнце дарило свое угасающее тепло. Воздух был необыкновенно чист – дышалось полной грудью. Доронин предложил закурить, но Калошин, вытянув длинные ноги, подставив лицо солнцу, отрицательно помотал головой:
– Тебе тоже не советую. Здесь такая природа! Озон! – он глубоко втянул в себя воздух. – Если бы не работа, отдохнул бы здесь денька два.
Доронин засмеялся. Калошин, поняв, что сказал не то, улыбнулся:
– Ну, будет тебе смеяться над начальством. Ляпнул – бывает. Ты лучше скажи, что думаешь обо всем этом?
Тот повернулся всем телом к майору, посерьезнел:
– Мне кажется, что все началось именно здесь. И не с Шаргина, а раньше.
– В правильном направлении мыслишь, лейтенант. Я так же в этом совершенно убежден. Наша с тобой задача: разговорить основательно старушку-санитарку. Ты видел ее лицо, когда она говорила про доктора Шнайдера? – Доронин кивнул. – И Кривец не последняя скрипка в этом оркестре. Узнаем, что здесь происходило, что за человек инкогнито приезжал сюда – полдела раскроем. То, что это был не Полежаев, я почти уверен. Приезжавший, по словам Хижина, был невысок. Нам совершенно необходимы фотографии всех фигурантов. Возможно, что Полежаев был здесь, и кто-нибудь да узнает его. Ведь знал же он Шаргина.
– Кстати, товарищ майор, что вам сказали по телефону?
– Дубовик позвонил Муравейчику – второй некролог, который прочел Полежаев, был о смерти хирурга Берсенева. Кто он, что он – пока не знаю. Но, как сказал Хижин, этот человек непосредственно участвовал в операциях, проводимых Шаргиным и незнакомцем, если сам не был тем человеком, скрытым под маской.
Доронин хотел что-то сказать, но в этот момент к скамье подошла Анна Григорьевна.
Глава 18.
ОН уже много часов шел по черному выжженному лесу, пропахшему пороховым дымом. Глаза застилала красная пелена, пот черной грязью струился по лицу. Нещадно болел раненый бок. ОН знал, что рана его не опасна, хоть и сильно кровоточит, но если её не обработать, не перевязать – через несколько часов может начаться заражение. А ОН не мог позволить себе умереть – не потому что жалел себя или боялся смерти, ОН понимал, что смерть – это лишь непристойный физический процесс, – просто не мог позволить умереть вместе с НИМ своему детищу, только-только рожденному дьявольским разумом. ОН знал свое предназначение – ЕМУ принадлежит честь тайного открытия, он нашел свою Гиперборею со своими законами бытия и существования человечества. Для этого ОН появился на свет, а теперь ступил на эту чужую истерзанную землю, затоптанную сапогами своих соплеменников. Сейчас ОН шел к тому, кто ждал ЕГО давно, чтобы вместе с НИМ закончить начатое много лет назад сотворение тайного оружия. ЕГО фюрер жаждет победы – он идет напролом. Тоталитарная сущность главного нациста требует уничтожения враждебного ему, но не менее репрессивного режима человека из Кремля, стремящегося к всеохватывающему контролю над всеми аспектами жизни своего народа. «Железные кони» гитлеровской армии, выбивающие смертоносный огонь из-под копыт и «бешеные псы», беспрестанно гавкающие: «Хайль!», сметают все на своем пути, но при этом сами исчезают в бездне небытия. ЕГО же оружие циничнее и страшнее – крохотное, ни кем не видимое чудо, как тать в ночи, способно пробраться в любую жизнь и растоптать ее, разрушить лишь по одному только ЕГО желанию. Оно может исправить и дополнить сотворенное Господом человеческое существо. И теперь это ЕГО прерогатива – подарить жизнь или отнять ее. ОН приблизил себя к Всевышнему, и не простит себе, если не закончит начатое. ОН сумел и того, кто ждет его здесь, заставить думать его извращенным сознанием. Потому-то, падая беспрестанно на колени от усталости и боли, глядя отекшими глазами в грязное дымное небо и шепча: «O, Main Got!», вновь вставал и шел. Чужая серая гимнастерка пропиталась кровью, и от этой черной желатиновой массы стала каменно-тяжелой, тащила тело вниз, заставляя бесконечно бороться с непреодолимым желанием лечь на упругий, мягкий мох, захватить боль немеющими руками и баюкать ее, засыпая вместе с нею.
Когда ОН, больше не в состоянии сделать ни шага, в очередной раз опустился на колени, прижимая одной рукой другую к ране, наклонив вперед седеющую голову и подавшись ею вперед, медленно-медленно начал падать, скорее почувствовал, чем увидел, летящего к нему ангела. Последней была мысль, что ОН оказался непорочен в своих поступках, что не погрешил против заповедей Господних, что правильно толковал свое предназначение на земле, если сам Бог послал за НИМ это легкое бесплотное существо с нимбом вокруг головы, ибо слуги дьявола, облачённые в черную мантию зла, не могут так вкусно пахнуть разноцветьем трав и родниковой водой, которая живительной влагой вдруг просочилась во все клетки ЕГО страдающего тела.
Потолок над ЕГО головой еще качался, но в мышцах уже чувствовалась жизненная сила, побеждающая боль и немощь, разжигающая огонь обыкновенных плотских желаний, наполнявшая мозг звериной радостью и мыслью: «Жив! Жив! Жив!» Над ним склонилось нежное лицо «ангела» – белокурая девушка с толстой косой вокруг головы гладила его по волосам и тихо говорила: «Ну, вот и хорошо! Скоро поправитесь! Рана неглубокая, затягивается быстро!» – и очень светло улыбалась.
Потом был пахучий травяной чай, блюдечко с янтарным медом, кринка с топленым молоком и краюшки черного хлеба. Тело ЕГО приобрело прежнюю упругость, мышцы постепенно налились сталью. Ноги требовали движения. И в одну из душных ночей уходящего лета ОН тихо встал с мягкой перины, снял с гвоздя у двери старенькие брюки и пиджак ушедшего на фронт хозяина, и быстро, не оглядываясь, ушел в чернеющую даль.
Глава 19.
Анна Григорьевна осторожно опустилась на край скамьи, на которой сидели Калошин с Дорониным. Майор повернулся к женщине:
– Знаете, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы можете многое рассказать нам, кроме того, что уже сказали. Если вам не трудно, начните с вашего знакомства с доктором Шнайдером. Нас интересуют абсолютно все подробности.
Она согласно кивнула, но добавила, что это может занять немало времени. Калошин успокоил ее, сказав, что они выслушают все, о чем она им расскажет.
– В эту клинику я устроилась в 1940 году, – начала она свое повествование, – мой муж был направлен сюда на работу из Москвы, – к медицине он никакого отношения не имел, – я переехала с дочерью к нему. Сын наш в то время был призван на флот, там он служит по сей день. Когда я устроилась на работу, здесь заведующим был Хейфиц Яков Иосифович, но в начале июня 1941 года он был арестован НКВД по чьему-то грязному доносу. Всем было понятно, по каким статьям его обвиняли – тогда они были у всех одинаковыми. Я недолго была с ним знакома, но мне он казался честнейшим человеком, думаю, что это так и было – его любили и весь медперсонал, и пациенты. Что с ним сталось, никто из ныне работающих не знает до сих пор. Жену с детьми, насколько мне известно, угнали в Германию. Оттуда они не вернулись. После ареста Якова Иосифовича сюда приехал начальник Облздрава и сказал, что из Москвы к нам на работу направлен доктор-психиатр Шнайдер. А пока его замещал, тогда еще совсем молодой, Шаргин. Но к началу войны Шнайдер еще не появился здесь, а через месяц нам пришла телеграмма о немедленной эвакуации всех пациентов клиники. В ней же сообщалось, что вновь назначенный доктор присоединится к нам позже. Эвакуация, к сожалению, затянулась. Отправлять старались сначала более перспективных больных. Их было, правда, совсем немного, но с транспортом постоянно возникали проблемы. Эвакуировали ведь не только нашу клинику, но и детские сады, и школы, и больницы общего профиля. Поэтому мы не успели в срок отправить всех. Правда, осталась лишь небольшая часть пациентов и несколько человек медперсонала. Вот тогда и появился доктор Шнайдер. Несмотря на всеобщую панику, он повел себя очень грамотно и спокойно – распорядился надежно спрятать архив, так как было ясно, что вывести его уже не удастся, всех оставшихся больных – их было чуть больше десятка – перевел в небольшое помещение за основными корпусами, из медперсонала оставил меня и одну санитарку. Больных постарался определить на общедоступные работы в городе, и, даже, когда пришли немцы и расположились в свободных зданиях, он смог несколько человек пристроить в котельную при клинике и на уборку двора. Каким образом он договорился с немецкими офицерами – я не знаю. Но все больные остались живы, а ведь в других местах пациентов таких клиник просто уничтожали. – Калошин дотронулся до ее руки, как бы извиняясь за то, что перебивает:
– А на каком языке он разговаривал с немцами?
– Только на русском. Если офицер не знал языка, то при нем был переводчик. А так… Знаете, многие из них владели русским неплохо. Правда, где-то в конце войны, совершенно случайно, я вдруг узнала, что Шнайдер знает немецкий язык. Но ведь он был по национальности немцем, поэтому я не придала этому факту никакого значения, кроме того, у нас ведь и в школе, и в институтах преподавали немецкий. Кстати, доктор Шаргин тоже знал его прекрасно, и даже подчеркивал это не раз, а вот Шнайдер, как я поняла, тщательно скрывал свое знание языка.
– Вы сказали, что узнали об этом случайно. Как именно?
– Видите ли, мы в войну жили здесь, рядом со своими пациентами. Уходить домой не было смысла. Моя дочь была в эвакуации, маленький сын санитарки находился при ней, доктор Шнайдер семьи не имел, поэтому мы жили здесь небольшой коммуной – и теплее, и сытнее. К концу войны ничего особенно не изменилось. Мой муж, – на ее глаза навернулись слезы, – погиб еще в октябре сорок первого, у Зины – санитарки – тоже, только позже, в сорок четвертом. Доктор, как вы понимаете, семьей не обзавелся, поэтому так и жили до тех пор, пока не вернулись все из эвакуации, а я и сейчас тут живу. Так вот… – она замолчала на некоторое время, как бы собираясь с мыслями. – В один из вечеров Шнайдеру позвонили, но его нигде не было. Шаргин попросил меня найти доктора. Я вышла на улицу, так как видела, что он незадолго до этого сидел вот на этой скамье. – Она похлопала по сиденью рядом с собой. – Но его уже здесь не было. Приглядевшись, я заметила, что он стоит за воротами с каким-то мужчиной. Направилась к ним, подошла довольно близко – мягкие тапочки и асфальтированная дорожка скрывали звук моих шагов. Только хотела было окликнуть, но в этот момент незнакомец заговорил. – Она оглянулась вокруг, как будто боялась, что их могут подслушивать. – Этот лающий язык на всю жизнь поселился в моем мозгу. Я опешила. А когда доктор ответил ему тоже по-немецки, я испугалась, появилось такое чувство, будто вернулись дни оккупации. Было что-то в облике этого незнакомца такое, что казалось – еще миг, и он выбросит вперед правую руку в нацистском приветствии. Слишком часто за военные годы мы видели подобное. Я тихо повернула назад, а уже с крыльца окликнула доктора. Тот мужчина сразу же ушел, и я слышала, как невдалеке отъехала машина.
– Вы кому-нибудь рассказывали об этом?
– Нет… – Она посмотрела на мужчин умоляющим взглядом. – Я понимаю, что поступила плохо, но я видела, как доктор Шнайдер возвращал память советским солдатам после тяжелейших ранений в голову. Здесь после отступления немцев был госпиталь, и очень много раненых прошло через наши руки. Шнайдер принимал самое активное участие в их излечении. Как я могла его предать? Я знала, что он много занимался исследовательской работой. Значит, ещё много пользы мог бы принести людям, если бы не умер.
– Вы знаете причину его смерти? – решил просто уточнить Калошин, но ее ответ привел оперативников в замешательство:
– Да, я знаю. Он умер от ранения в легкое. Правда, оно не было тяжелым. – Увидев, что мужчины удивленно переглянулись, она пояснила: – Доктор по неизвестным мне причинам скрывал от всех этот факт, и, практически, не лечился. Мне же пришлось однажды оказать ему помощь – рана загноилась, и ему было довольно неудобно ее обрабатывать. Он обратился ко мне, но при этом просил о строжайшем соблюдении тайны. Можно сказать, что настаивал на этом. Я – медик, чужие тайны хранить умею. От такого ранения очень часто развивается и бронхит, и воспаление легких, поэтому скрыть истинную причину смерти было не трудно.
– Но ведь кто-то делал вскрытие?
– Да, его коллега – хирург Берсенев. Свидетельство о смерти написал он, и никто не оспаривал его выводов – для этого просто не было причин. – Калошин с Дорониным в очередной раз многозначительно переглянулись. Майор поспешил спросить:
– Вы знали Берсенева? – при этом он сделал ударение на каждом слове.