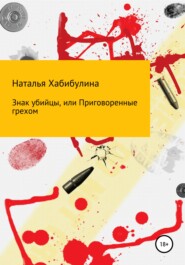По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джокер в пустой колоде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, это как посмотреть, насчет преступления, – Хижин, заметно волнуясь, встал из-за стола и принялся расхаживать нервно по кабинету. – Понимаете, если бы Шаргин смог доказать пользу от проведенных операций, то, может быть, это был бы прорыв в медицине. А так… – Он как будто углубился в свои воспоминания, опустил большую голову и застыл. Было что-то в его позе драматическое и даже красивое. Но Калошин вынужден был прервать раздумья доктора:
– Борис Иванович! У нас по делу, некоторым образом, проходит один ученый физик. У него в доме были найдены статьи о психиатрии и биофизике, а у Шаргина , вы сказали, появилась какая-то новая литература. Что именно, вы помните?
– Эти книги и журналы сохранились у него в шкафу, там вы сможете все посмотреть. Но журналы по биофизике и нейрохирургии как раз отвечают направлению исследований доктора.
Калошин и Доронин очень внимательно слушали Хижина, их все больше заинтересовывало все, о чем он им рассказывал.
– Но причем здесь физика? – вопросительно приподнял плечи Доронин.
– О. молодой человек! Самое что ни на есть прямое. Видите ли, живая природа, как вам, наверное, известно, вся, включая нас с вами, состоит из молекул, протонов, нейронов, одним словом, частиц, изучаемых физикой. И вот как раз биофизика изучает физические процессы, протекающие в различных биологических системах, в том числе, и в головном мозге. И она может ответить на вопросы влияния физических факторов на человеческую память, которая является сложной нервной цепью, состоящей из тех самых нейронов. Так что, если был задуман именно такой эксперимент, о котором я вам сказал, то участие физика вполне логично, тем более, что лично мне непонятно, каким образом оказывалось влияние на мозг испытуемых, может быть, физический аспект был направляющим.
– Почему же были запрещены операции на мозге? – решил уточнить Калошин.
– Ну, после лоботомии часто возникали осложнения, приводящие к слабоумию, некоторые операции дали неудовлетворительные результаты, и, потом, согласитесь, само вмешательство в мозг человека являлся неэтичным. – При этих словах Доронин взглянул на Калошина, тот прочитал в его глазах: «Это то, о чем говорил Каретников?» – в ответ на этот немой вопрос майор незаметно кивнул. Хижин сел рядом с оперативниками на диван, вздохнув, предложил:
– Давайте сделаем маленький перерыв – я отчего-то вдруг устал.
Решили прогуляться по парку.
Время было предобеденное, и некоторые больные в серых тяжелых халатах медленно бродили между скамейками или тихонько сидели в тени высоких сосен.
Доронин и Калошин молча курили, Хижин чертил прутиком что-то на песке. Каждому из них было о чем подумать.
Глава 16.
В то же время в Энске.
Майор Дубовик задумчиво курил, сидя у стола Калошина, заваленного снимками и бумагами. Пересмотрев все еще раз, он пытался построить логическую цепочку произошедших событий. Многое в этом преступлении не вязалось с общей картиной. Если гибель молодых людей была хоть как-то объяснима, то в смерти профессора было столько загадок, что, решив одну, наталкиваешься на две неразрешенные. Когда эксперт Карнаухов принес заключение о смерти Полежаева, наконец-то стало понятно, каким образом убийце удалось увести его на озеро. Тут следует, сказать, что абсолютно прав был Доронин, когда о перемещении профессора из кабинета на берег употребил слово «унесли», потому что идти сам он в тот момент уже не мог – у него случился обширный инфаркт. «Значит, – размышлял майор, – профессор видел убийцу, и это напугало его, в самом прямом смысле, до смерти, но тогда непонятно, зачем вообще надо было его куда-то уносить? Если целью преступника была смерть Полежаева, то, в «умыкании», собственно, даже не самого профессора, а его почти бездыханного тела, смысла не было никакого. Или все-таки что-то толкнуло ЕГО на это?» – Дубовик пошуршал бумагами, вынул из кипы фотографий снимок убитой собаки: «Здесь как будто все понятно, кость была, по заключению эксперта, напичкана снотворным из группы барбитуратов. Преступник бросил ее собаке; примерно через 20-30 минут, как пишет эксперт, такие препараты начинают действовать – пес уснул, и его зарезали. Но тут возникает еще один вопрос: если, как сказал Карнаухов, снотворного было достаточно, чтобы это количество убило животное, тогда к чему такой садизм? Или целью было не только простое устранение пса, как охранника, но и явилось средством устрашения? Тогда не следовало бы спешить с убийством профессора, как, скорее всего, и случилось бы, если бы Полежаев не пошел в милицию. Кто мог об этом знать? Сосед Каретников? Но его в тот день не было дома. Хотя алиби, как сказал Моршанский, у него не безупречное. Дождемся следователя и узнаем точно. Кто еще?» – Майор встал, походил по кабинету, закурил. – «Да кто угодно, – ответил сам себе. – Круг фигурантов у нас, практически, не очерчен. И все, и никто».
В это время вернулся Воронцов. Дубовик посылал его за подшивкой «Вечерней Москвы».
– Вот, товарищ майор, принес. – Он положил на стол газеты, сшитые простым обувным шнурком.
– Ну-ка, ну-ка! – Дубовик резво поспешил за стол, сел и стал быстро перелистывать страницы. – Вот! – торжествующе произнес он. – Читаю: «Вчера в 10.30 утра в своем доме по улице… так, так, был найден труп известного хирурга Берсенева Григория Яковлевича. Так… так… Несчастный случай. Упал в межлестничный проем… Черепно-мозговая травма…» Это понятно. – Дубовик пробежал пальцем по строчкам, пропуская часть текста. – А вот это уже интересно: «… в свое время работал в институте физики и биофизики, которым руководил академик Лазарев. В последние годы много занимался научной работой… под руководством… Самостоятельно проводил операции… так, та-ак… перенимал опыт… хирургическое лечение некоторых форм психических заболеваний». Ну, вот, Костя, это уже кое-что. Надо бы установить его связь с доктором Шаргиным. Полежаев знал их обоих, судя по реакции на некрологи. Значит, можем допустить, что и Берсенев с Шаргиным знали так же друг друга. Поручим Калошину это узнать, пока он там.
В середине дня в отделении появился, приехавший из Москвы, коллега Полежаева, доктор физико-математических наук Викентий Маркович Городецкий – маленький лысый толстячок с необыкновенно красивыми умными глазами. Он, не теряя времени, занялся изучением всех бумаг, привезенных из дома профессора. Вывод его был однозначным: ничего общего с нейробиологией, хирургией, психиатрией исследования Полежаева не имеют. Появление у него соответствующей литературы можно объяснить многими причинами, в том числе, и обычным увлечением.
– Вы знаете, у нас немало ученых, которых, помимо их непосредственной работы, занимает что-то еще: будь то музыка, история, археология… Да все, что угодно. Я знаю одного доктора наук, который с удовольствием вяжет носки, правда, этого не афиширует. Точно так же, Лев Игнатьевич мог увлечься вопросами психиатрии и скрывать этот факт от своих коллег. Но в этих работах, – Городецкий потер круглый подбородок, – нет и намека на что-то подобное. Кроме того, у него есть свой ученик, с которым они совместно разрабатывают данную тему. – Он похлопал по стопке бумаг, исписанных и исчерченных профессором и, увидев немой вопрос Дубовика, поспешил сказать: – Нет-нет, никакого отношения к гибели Полежаева он не имеет, поверьте. Абсолютно интеллигентный молодой человек; профессора, буквально, боготворил. И весть о гибели учителя повергла его в такой шок, что не знаю, когда он сможет продолжить работу. Если эти материалы вам не нужны, я попросил бы вас передать их этому молодому человеку. Может быть, это как-то поможет справиться ему с потерей и даст возможность в полной мере продолжить исследования, так как, судя по записям профессора, они имеют неоценимое значение для нашей науки. – Майор согласно кивнул и спросил:
– А что вы думаете о рисунках на полях?
– Ну, это объясняется совсем просто. Задумываясь, практически, каждый человек что-то чертит бессознательно, как правило, одни и те же фигуры. Это все зависит исключительно от темперамента каждого. Профессор был типичным флегматиком – работал неспешно, все тщательно обдумывал, тем и объясняются эти частые рисунки. Ну, а то, что нарисовано довольно профессионально – так это проявления особого таланта Льва Игнатьевича. У него дома, кстати, я видел книги по истории живописи, много эскизов и репродукций довольно известных мастеров – это лишний раз говорит о его увлечениях. Хотя… – Городецкий покопался среди бумаг и вынул лист с нарисованной рукой. – Знаете, мне показалось, что этот рисунок несколько выбивается из общего настроения. – Дубовик заинтересованно заглянул к нему через плечо:
– Ну-ка, ну-ка, что там? Очень интересно, обоснуйте свои мысли.
Доктор еще раз повертел лист, разглядывая его с разных ракурсов:
– Дело в том, что, как мне кажется, это нарисовано с определенной целью, очень тщательно, тогда как другие рисунки отличаются хаотичностью и неопределенностью, не имеют смысла. Я боюсь ошибиться, но последний, по-моему, сделан для вас.
– Подождите, что значит для меня? – удивился Дубовик.
Городецкий успокаивающе поднял руку:
– Я имел в виду не лично вас, а вашу систему. Это как подсказка. Вы же понимаете, что написать открыто фамилию своего убийцы он не мог? – Дубовик согласно кивнул, но при этом промолчал о существовании письма, в котором, скорее всего, профессор все же указывал на возможного преступника, и, может оказаться, что совсем скоро они узнают его имя – Гулько с самого утра сидел над пресс-папье, только решил уточнить, уверен ли доктор в своих подозрениях.
– Видите ли, товарищ Дубовик, я очень хорошо знал Льва Игнатьевича. И постараюсь объяснить вам, чем я руководствуюсь в своих рассуждениях. Он был совершенный флегматик- интроверт – скупость эмоций, замкнутость, уединение, погруженность в мир размышлений и воображений, но при этом необыкновенная прилежность – это абсолютная его характеристика. Поэтому все в этой картинке так тщательно вычерчено. Это, как если бы он написал письмо – без ошибок, все очень обдуманно и подробно. Как думаете, я правильно понимаю его поступок? – Дубовик же, напротив, пока не находил логики в действиях погибшего профессора, и в ответ на этот вопрос предпочел промолчать.
Городецкий вдруг как-то странно всхлипнул, засуетился, попросил копирку и стал аккуратно переводить рисунок на чистый лист. Потом провел жирную черту вдоль ног и рук нарисованной куклы и, отведя бумагу подальше от глаз, торжествующе сказал:
– Вот! Я же говорил, что это не просто рисунок – взгляните! – рука его мелко подрагивала, когда он протягивал лист майору. Дубовик взял его осторожно, как бы боясь повредить, и взглянув на переведенные линии, опешил:
– Так это же фашистская свастика! – не скрывая своего удивления, он с подозрением посмотрел на Городецкого. – Но как в рисунке какой-то куклы вы усмотрели это?
Тот с готовностью принялся объяснять майору свои догадки:
– Мне сразу показалось странным расположение рук и ног, они выглядели как определенная схема, собственно, крест сложился именно из них, туловище и голова всего лишь необходимые дополнения, получилась широко шагающая марионетка.
– Значит, весь смысл этого рисунка, по-вашему, лишь в указании на крест? – уточнил Дубовик.
– Э-э, нет! И рука, и кукла, и ее поза – это все взаимосвязано. Мне думается, что какой-то человек ведет очень страшную игру, манипулируя при этом кем-то. И на одном из них стоит вот эта, – он с брезгливостью ткнул в изображение свастики, – дьявольская печать.
– Доктор, вы умница! – Дубовик с уважением пожал короткопалую мягкую руку Городецкого. – Ну, теперь нам есть от чего плясать, – он довольно потер ладони, – а к вам у меня остались вопросы касательно еще одного вашего коллеги – Каретникова.
– Каретникова? – Городецкий пожал плечами. – Ну, задавайте ваши вопросы – все, что знаю о нем, расскажу.
– Тогда, пожалуйста, немного охарактеризуйте его как ученого и как человека.
– Ну, как ученый, он, скажу вам, мало состоялся: все его неудачи происходят от его неуравновешенности – слишком частая смена настроения при его довольно высокой работоспособности играет против него. Он, увлекаясь какой-нибудь идеей, растрачивает свои силы и быстро истощается. Поэтому ведущая роль ему неподвластна, хотя, скажу вам, он достаточно умен, выдвигает порой весьма любопытные гипотезы, предлагает интересные темы, но сам, как я уже сказал, быстро от них отходит. Кроме того, есть в нем какое-то неосознанное ханжество. При всех его добродетелях, которые он пытается приписывать себе, присутствует в нем нечто безнравственное, хотя и довольно хорошо завуалированное. Одним словом, довольно одиозная фигура.
– Полная противоположность Полежаеву? – сделал уточнение Дубовик.
– Вы абсолютно правы! Темперамент холерика, – сказал удивленно посмотрел на заулыбавшегося майора.
Дубовик поспешил объяснить свое поведение:
– Я, Викентий Маркович, если бы не знал, что вы доктор физико-математических наук, решил бы, что передо мной сидит психолог. Уж больно профессионально вы характеризуете своих коллег.
– Представьте себе, что я по первому образованию, хотя и незаконченному, таковым и являюсь, потому-то сюда послали именно меня, – несколько обиженно ответил Городецкий.
– Ну, простите, не знал. – Дубовик покаянно приложил ладонь к груди. – Но ведь это здорово, что вы обладаете такими познаниями – помощь для нас неоценимая. Вы продолжайте, я вас слушаю.
– Да, собственно, вот он, весь Каретников. Но могу добавить, что если Полежаев, в силу своего темперамента, человек волевой, то этот может быть подвержен влиянию со стороны, хотя эта черта его характера не столь ярко выражена, как остальные.
– Вы знали, что между Полежаевым и Каретниковым произошла размолвка?
– Это видели все, но причины никому не известны.
– Каретников объяснил, что от Полежаева получил какое-то предложение, которое он отклонил из этических соображений, обидев тем самым профессора.