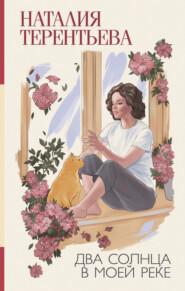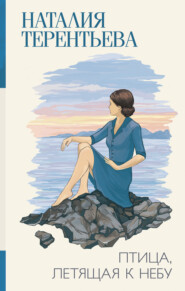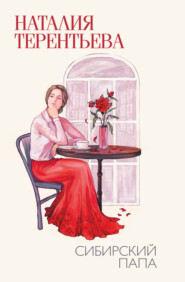По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Журавль в клетке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему? – опять спросила Маша. Мне показалось, что она устала от моих невнятных объяснений.
– Потому что не хотела, чтобы ты узнала – каково быть у того, кого любишь, на седьмом, на двенадцатом месте. Не хотела, чтобы мы вместе с тобой, обнявшись, плакали оттого, что Игорь Соломатько не желает с нами жить. И чувствовали себя убогими дурами – оттого, что плачем об этом. Понимаешь?
– Понимаю, – легко кивнула Маша.
Нет, не могла она понимать. Это тот горестный опыт, которого я намеренно лишила ее в детстве. Сознания своей неполноценности в сравнении с кем-то, кто изначально и однозначно лучше, раз папа предпочитает читать сказки перед сном этому кому-то, с ним ходить в лес, его учить плавать на море и ему петь полузабытые песенки своей юности.
– А что, обязательно было, чтобы он пришел и остался навсегда?
Я очень надеялась, что Машей движет любопытство естествоиспытателя и ничего больше.
– Тогда мне казалось, что – да.
– А сейчас?
– Не знаю. Маша… – Ну как же ей объяснить? Вот поэтому, в частности, я все тянула и откладывала этот разговор, все ждала, когда она подрастет и можно будет ей что-то внятно растолковать. Что-то, что не всегда растолковывается и себе самой. – Маша, пойми: папа твой нарушал, пытался все время нарушать некоторые очень важные законы нашей жизни. Он, конечно, не один такой на земле…
– Это имеет отношение ко мне? – Маша, похоже, вошла в роль строгого судьи и теперь с удовольствием была готова заклеймить меня. Но, простите, судья – это ведь даже не следователь, а начали мы, кажется, с допроса…
– Да, Маша. Имеет. Непосредственное отношение, – чуть пожестче сказала я. – И знаешь, о каких законах речь? Ты же уже большая девочка, одного дяденьку легко соблазнила ногами и чем-то еще, вряд ли своим ангельским голоском.
– Маша напряженно выпрямилась, а я продолжила чуть мягче.
– Есть законы, не нами придуманные…
– А кем? – быстро спросила Маша.
– Маш… Кем-то давно, вероятно, теми, кто нас создавал. И еще поколениями, сотнями поколений людей, живших до нас, совершенно таких же, как мы с тобой. А законы очень простые. Если люди любят друг друга, они живут вместе. А если не любят, то не пользуются друг другом. А если кто-то один пользуется, то, как правило, ничем хорошим это не кончается. Понятно? – Маша не очень уверенно кивнула. – От любви появляются дети, и тогда уже люди эти, любящие друг друга, начинают думать не только о своих удовольствиях, а о жизни маленького человека, о его счастье… Нельзя всю жизнь пробегать в поисках удовольствий – слишком многое и многих придется тогда перешагнуть. Прежде всего ни в чем не виноватых, беспомощных малышей, которым особенно нужны родители в первые десять-двенадцать лет их жизни.
– Ну, хорошо… – сказала Маша, похоже потерявшая нить моего не очень внятного объяснения. – А скажи мне, кстати, – очень легко продолжила она, и я поняла, что это и есть, наверно, один из главных ее ко мне вопросов, – а я его любила?
М-м-м… – Я задумалась. Трудно только что уличенной во лжи рассчитывать на полную веру в свои слова. Но тем не менее я сказала, как было на самом деле: – Сначала ты его боялась. Он ведь приходил очень редко, а для малыша день – как для взрослого месяц, время в детстве течет по-другому. Но постепенно ты стала его выделять из приходящих гостей и родственников. И… – я взглянула на внимательно слушающую меня Машу, – и, наверно, даже полюбила.
А кто знает на самом деле, что ощущает малыш, тянущий к тебе крохотные ручки, доверчиво смеющийся беззубым ротиком и с одинаковым интересом разглядывающий твои очки, нос, ресницы… С некоторых пор мне кажется, что потребность любить рождается вместе с человеком, она не менее важная, чем естественная потребность в пище и воде. Но Маше я сказала иначе, опять упрощая себе жизнь и лукавя, оставляя «на потом» все сомнительные нюансы и размышления:
– Тебе нравилось играть с ним, кататься у него на руках… Он все время заставлял тебя танцевать под одну и ту же простенькую мелодию, которую сам напевал… И очень веселился, глядя на тебя…
– А я этого не помню. Совсем не помню. А почему, кстати, мам, человек не помнит своего раннего детства? Что, разве нечего помнить? Или мозг еще не умеет запоминать информацию?
Я улыбнулась и перевела дух. Маша либо действительно устала от сложной темы, либо настолько хитра, что решила отложить дальнейшие выяснения на следующий раз.
– Я думаю потому, что маленький человек очень много страдает. От того, что не может выразить, чего он хочет, от беспомощности, от дискомфорта физического, от страха, от боли, от постоянного принуждения – ведь малыша часто заставляют делать вовсе не то, что бы ему хотелось. А наш мозг имеет свойство как бы «терять» отрицательную информацию. Выздоровел – тут же забыл, что болел, перестал чего-то бояться – и не помнишь страха, смеешься над ним…
– Понятно. Значит, я просто потеряла информацию об отце, да?
Всегда так точно ощущавшая, что происходит в душе моей Маши, сейчас я не понимала ее спокойного тона при странно напряженных глазах. Ну не могла же она полюбить Игоря Соломатько за три дня? Хотя она ведь знала его несколько дольше, только мне ничего не говорила… Или она и раньше любила некий фантом отца, пустое место, любила и страдала, что-то там себе представляла о нем, и Соломатько, появившись в ее жизни, ловко впрыгнул на это место? Как, допустим, мог бы впрыгнуть и кто-то еще? И я, если бы вышла замуж за кого-нибудь другого, избавила бы Машу от тоски о неизвестном и потому загадочном и прекрасном отце? Говорю, и сама не верю в то, что говорю.
***
Есть такое выражение – «витало в воздухе». Я догадываюсь, как бы это объяснили парапсихологи и все, кто пытается так или иначе постигнуть то, что нам, видимо, знать не надо – о чтении чужих мыслей, о предчувствии, о внушении и всяких прочих чудесах. И знаю, как зло посмеялись бы над подобными объяснениями немногочисленные реликтовые защитники и адепты материалистического представления о мире. Только я не понимаю, как объяснить на самом деле, что ровно через полчаса после нашего с Машей разговора я понесла Соломатьку кофе в тайной надежде послушать его шутки-прибаутки и не говорить ни о чем серьезном, а он с ходу спросил:
– Слышь, Егоровна, а ты никогда не думала о том, что девочке нужен отец? – Увидев мои вытаращенные глаза, Соломатько заторопился: – Нужен хотя бы для того, чтобы… чтобы, к примеру, во дворе не чувствовать себя худшей, не такой, как все.
Я присела на краешек мягкого подлокотника кресла:
– Не переживай. У нас во дворе полно таких, как Маша, – с крепкой дружной семьей, состоящей из мамы и любимого ребенка. И потом. Я из двух зол выбрала очевидное и понятное. Ну да, моя девочка не могла ответить кому-нибудь: «А вот мой папа…» Зато она и у окна не стояла в ожидании, бесполезном и горестном…
– Это что, символ у тебя такой? – прищурился Соломатько. – У окна стоит беспомощная малышка и ждет нехорошего, злого папу…
– Точнее – чужого папу, – поправила я. Он еще будет ёрничать на эту тему! – Символ, да!
Любимый! Мой щит и меч в течение четырнадцати лет! Мой ночной кошмар! Она стоит, маленькая и беспомощная против наших сложных, изолганных, перекрученных отношений, а ты – уходишь! И машешь рукой снизу… Ручкой машешь, а ножки в это время бегут, бегут – прочь… Да и собственно, чему ты мог ее научить? Врать? Притворяться? Быть везде хорошим за счет бесконечного, сложнейшего вранья? И тому, какое красивое название имеет это вранье – «разумный компромисс», я правильно помню твою юношескую теорию выживания?
Соломатько почувствовал, что я по-настоящему разозлилась, и, видимо, не захотел со мной сейчас ссориться. Поэтому после каждой моей реплики стал постанывать, раскачиваясь и держась руками за голову.
– Не паясничай, – попросила я его, прекрасно зная, что об этом, как и обо всем другом, просить его бесполезно.
– Ду-у-ра… ой какая дура… – простонал он, однако качаться перестал. – И гладко говоришь, видать, не впервой! А почему, кстати, Егоровна, ты так не любишь компромиссы? Твой максимализм – это башкой об стенку и ногами вперед. А компромисс и есть сама жизнь.
– Не жизнь – компромисс, а ты – словоблуд, – отмахнулась я, поскольку терпеть не могу абстрактные и оттого крайне лукавые рассуждения о жизни вообще.
– Проиграла! Проиграла! – обрадовался Соломатько, почувствовав мою слабину.
Я повернулась спиной к окну, чтобы лучше видеть выражение его лица. При этом, обитое шелком кресло, на которое я обычно садилась, приходя сюда, слегка качнулось вправо-влево. Я посильнее нажала на подлокотник и поняла, что, определенным образом нажав на ручку кресла, его можно приводить в движение практически в любую сторону, даже вокруг своей оси. Соломатько заметил мой интерес и пояснил:
– У этого креслица еще о-очень много секретов. Если будешь терпелива, тебе откроется такое…
По его тону я догадалась, какое мне откроется, и поспешила ответить:
– Давай лучше про бедных девочек и про их непонятых отцов. Я убеждена, что девочке, да и вообще ребенку нужна просто любовь. Искренняя, ни на чем другом не замешанная, безо всяких компромиссов, выяснений сложных взрослых вопросов за счет малыша, безоговорочная любовь пусть даже одной-единственной мамы. И этого вполне достаточно, чтобы ребенок чувствовал себя нужным и счастливым. Я уверена в этом. Все остальное – лукавство взрослых. Маша, кстати, лет до пяти все пыталась создать себе в воображении большую дружную семью. Перечисляла всех дальних родственников через запятую со мной и бабушкой с прабабушкой. Однажды съездив в Литву к дедушке, все рвалась туда снова, каждое лето. Да еще и присоединяла к числу родственников одну няню, задержавшуюся у нас на три года. Мне было жалко Машу до слез, когда она рассказывала кому-то, кто у нее есть из родных. А потом она вдруг перестала это делать, стала жить в том мире, который у нее был. Только я так и не поняла, откуда у нее в воображении взялась огромная дружная семья… Может, это естественная потребность любого человека? Дедушки-бабушки, двоюродные братья и сестры, ощущение, что родных, близких тебе по крови – много?
– А насчет лукавства – ты что имела в виду? – лениво спросил Соломатько, будто и не слыша все остальное.
– Да когда сваливают на детей все проблемы, которые не могут, или ленятся, или трусят решить взрослые. Так сложно развестись, разъехаться, разделиться, да и вообще на самом деле так сложно расстаться. Хотя ребенок в любом случае страдает – и когда расстаются родители, и когда плохо живут…
Соломатько заурчал, заерзал, стал нарочно зевать и почесываться. Видимо, решал – продолжать разговор и ссориться или нет. Решив, сказал:
– Хорош нудеть, Егоровна. Спать хочу. Кофе не уноси, оставь. На ужин будь добра расстарайся на оладушки со сметанкой… Хотя сметаны небось нет… Фу-у, будь оно неладно, это ваше мероприятие! Ели бы сейчас нормально… Да, но в разных концах Москвы… Ладно. Оладушки сойдут и так, с маслицем. А-а! Знаешь, что, кажется, есть, Егоровна!.. – Соломатько посмотрел на меня так таинственно, будто собирался сообщить нечто крайне важное для меня лично. – Есть же черная икорка!.. Привезли мне тут как-то товарищи с Дальнего Востока, в благодарность за умный совет… М-м-м… – он причмокнул, – икорку – обязательно! Любишь икорку? Я пожала плечами:
– Да как сказать… Ну, съем… Я вообще к еде просто отношусь…
– А я люблю! – с совершенно искренним воодушевлением воскликнул Соломатько. – И передай Марии Игоревне: если она будет отказываться – вывалю всю баночку на ваших глазах в окно. А баночки остались только восьмисотграммовые.
Я засмеялась.
– Ты очень ее этим напугаешь, Марию Игоревну.
Соломатько тоже засмеялся: