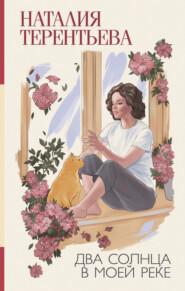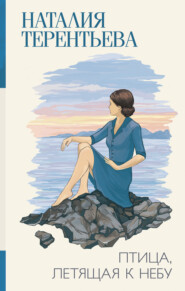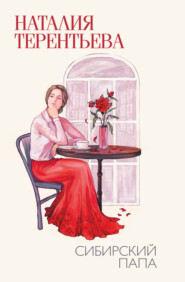По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Журавль в клетке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я знала, что шутки-прибаутки могут продолжаться до бесконечности, поэтому я поправила сползший плед, на секунду задержав руку на его плече, и ушла.
***
Я давно, много лет уже его не любила. Это точно. По крайней мере, я так считала. Вернее, совсем об этом не думала. А если бы меня спросили, то я бы ответила: поскольку количество любви, вот такой, несостоявшейся, прямо пропорционально количеству страдания, то любовь моя к Соломатьку давно равна нулю. Так как я совсем о нем не страдаю. Я живу, радуюсь, люблю Машу, иногда о чем-нибудь сетую, переживаю, но это уже другое, каждодневное, рутинное, банальное, а не глобальное.
Тогда почему я все никак не могла уйти? И почему мне так хотелось погладить его по голове и чем-нибудь прикрыть? И… присесть рядом… Или прилечь… И, уткнувшись в его плечо, вздремнуть рядом с ним, ощущая тепло и тяжесть его тела…
Наверно, права моя бездетная соседка Людмила Михайловна, в подпитии – Людка, ярая собачница и мужененавистница, которая давно говорит мне, встречая нас с Машей за ручку у лифта: «Второго пора заводить». Она имеет в виду второго ребенка. И нянчить его, прикрывать одеял-ком, гладить по голове…
А подружка Ляля, благополучно сменившая четырех мужей и пребывающая сейчас в эйфории медового месяца со следующим, пусть пока и не своим мужем Кириллом, советует мне приобрести хотя бы одного. Она-то имеет в виду, разумеется, мужа. И нянчить его. Либо принимать от него все то, чего лишена тупо и упрямо одинокая дама на обрыве сорокалетия. Еще шажок – и дальше заглянуть страшно. Хотя знаешь, что там происходит с большинством женщин. Кто-то отчаянно борется с подступающей старостью, кто-то, махнув на себя рукой, прежде времени теряет остатки привлекательности и, наверно, меньше страдает, смирившись с неизбежным старением…
Наверно, оттого и не хочется заглядывать. Поэтому Лялька, которой тоже страшно, которая точно будет бороться за молодость до конца, советует мне приобрести мужа или хотя бы красное платье выше колен, чтобы мужа найти поскорей. У нас даже код такой с ней есть.
Она звонит мне время от времени и, вздыхая, говорит:
– Свет, приезжай, а? Только без Машки. Тут к нам друг один заехал… Практически неженатый…
– Красное платье! – тоже вздыхаю я и вешаю трубку.
***
Когда подружка моя в очередной раз временно валится со своей ненадежной колокольни любимой женщины, она звонит и признается:
– Светка! Как ты была права! Что такое муж? Жизнь ниже пояса, не более. Суетливая, бестолковая и проблемная.
– А покупать красное платье? – беззастенчиво мщу я Ляльке, счастливой от расставаний не меньше, чем от встреч.
– Ты что? Позориться еще! – смеется она. – А если что, так я тебе свое дам…
У Ляльки шесть или семь красных платьев (на разную погоду и сезоны, включая головокружительное мини и домашнее – абсолютно прозрачное, в пол, для особых случаев), а также трое детей от разных мужей, ни одного седого волоса в тридцать девять лет, все свой тридцать два зуба – и, главное, мощный природный иммунитет к иссушающей, изматывающей, возвращающейся любовной лихорадке.
14
Дети
– Мам, а вот Соломатько говорит, что он меня видел маленькую, – без предисловий и как-то очень по-взрослому спокойно сказала Маша, ковыряя ладошкой край стола и внимательно поглядывая на меня.
– Перестань ерзать рукой – противный звук! – абсолютно растерянная, строго ответила я, судорожно размышляя, говорить ли ей правду, и если да, то в какой пропорции к вынужденной лжи. Поскольку умолчание, как известно, есть просто разновидность лжи.
– В таких случаях ты обычно говоришь мне: «Не крутись!» – прокомментировала дочка мою реакцию, подперлась кулаком и стала ждать, что же я ей отвечу.
– Ну да. Видел. В две недели.
. – И все? – бесстрастно уточнила Маша. Лучше бы она откровенно хамила.
– Нет. Еще в три месяца или в четыре. И… – Я заставила себя посмотреть ей в глаза. – И в шесть, и в семь месяцев… И даже в год.
– А почему ты мне по-другому рассказывала? – обстоятельно и спокойно повела Маша допрос бестолковой мамаши, которая пятнадцать лет старательно учила дочку не врать и попалась теперь на принципиальной лжи.
– Он приходил не потому, что хотел видеть тебя или меня, а потому что ссорился, наверно, со своей Татьяной, и… и… просто приходил … – слабо сопротивлялась я.
– Я тебя не о том спрашиваю, – поморщилась Маша. – Я хочу знать, почему ты мне не говорила, что Соломатько меня не совсем бросил. Ведь ты и я – это разные вещи, правда? К тебе он больше не приходил, а ко мне, оказывается, приходил?
– Нокаут, Мария Игоревна. Не знаю, что вам ответить.
– Правду, – коротко бросила Маша и прищурилась.
Передо мной сидела почти взрослая дочь Игоря Соломатько, смотрела на меня моими собственными глазами и при этом кривила отцовы губы и хмурила его брови.
– У тебя левая бровь с начесом, как у Соломатько, – беспомощно сказала я и попыталась ее обнять.
Маша на мгновение прислонилась ко мне, а потом отстранилась и сказала:
– Ты думала только о себе, мама.
– Нет!
Нет… Или да? Я не знаю.
– Маша. Я не могу ответить на этот вопрос никому – ни себе, ни тебе, ни высшим инстанциям, перед которыми не решаюсь врать, хотя и не уверена, что они интересуются нашими с тобой проблемами. Я думала, что общение с ним не пойдет тебе на пользу в будущем… и… и в результате отдалит нас с тобой друг от друга. И мне будет трудно на тебя влиять и воспитывать…
Маша слушала меня спокойно, никак не реагируя, и это-то и было хуже всего. Мне казалось, что она совершенно не понимает того, о чем я говорю. Тем не менее я продолжила:
– Эти опасения были не единственной причиной, заставившей меня сделать то, что я сделала. А именно – прекратить получасовые набеги Соломатька. И сама я не хотела снова увязнуть в какие-либо отношения с ним – после его предательства. Ты говоришь – он ко мне больше не приходил… Это так. И… и не так, Маша!
Машины глаза внимательно смотрели на меня. Внимательно и чуть напряженно. Ну как я ей это все буду рассказывать?! Какими словами? Как то, что было у нас с Соломатьком, переводится на детский язык? И даже на юношеский? Не было там больше никаких романтических категорий, в тех отношениях… Может, вот так прямо и сказать? «Он больше меня не любил, но норовил остаться на ночь…» Я вздохнула и вместо этого сказала о другом, не менее важном:
– И еще я не хотела, чтобы он совращал тебя и меня своим богатством, а он уже тогда зарабатывал большие по тем временам деньги. А деньги, Маша, – очень большой соблазн, ты уже сама понимаешь это… – Чем дольше я говорила, тем менее убедительными казались мне собственные доводы. – И потом, Маша, даже если сейчас выяснится, что я была и не совсем права… Или вообще не права… История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Ну что теперь можно изменить?
«Кроме твоего отношения ко мне» – могла бы продолжить я, но благоразумно промолчала.
– Ты обратила внимание, сколько раз сейчас повторялись слово «я»? – спросила меня Маша.
Она ничего не поняла. Потому что одно дело – убеждать, другое разубеждать убежденного. Только как же Соломатько смог всего за несколько дней в чем-то ее убедить? Или тут дело не только в нем?
– Маша, поверь, мне было трудно… психологически, физически, всяко. Мне не всегда хватало денег, иногда мне было сложно одной принимать какие-то решения… Ну и так далее. Но все-таки больше всего на свете я боялась продолжать с ним общаться…
Маша чуть теплее спросила:
– Почему?
Я боялась, что ты будешь стоять у окна и ждать папу. Неделями, месяцами и годами. Что все детство прождешь. Я знала, что он не придет никогда, то есть навсегда не придет. Будет заскакивать – на часок, раз в месяц. Или реже. Или не будет вообще. Будет звонить по телефону и невпопад спрашивать про новости, тут же забывая ответ. И через месяц будет спрашивать то же самое. Поэтому однажды, – я взяла ее за руку и второй рукой обняла, – однажды, Маша, когда тебе был годик с небольшим и ты уже его узнавала, я попросила его больше никогда к нам не заскакивать.
– А как ты ему сказала? Ты помнишь? – спросила Маша, не отстраняясь, но и не прижимаясь, как обычно, ко мне.
– Ну, то есть я не попросила, а… просто… перестала с ним общаться… гм… – Я перевела дух.
Вот уж не думала, нет, я точно не думала, что мне придется когда-нибудь оправдываться в этом перед Машей!.. Разве я не права уже хотя бы потому, что вырастила ее, вырастила одна? Хорошую, умную, добрую девочку, вполне всем довольную в жизни…