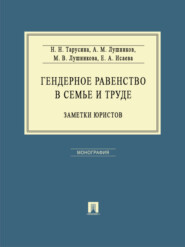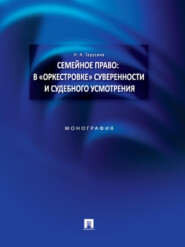По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гендер в законе. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. Возрастной предел «перезрелости» был определен Синодом лишь в 1844 г. (80 лет)
. Запрет был гендерно симметричен. Д.И. Мейер в этой связи подчеркивал, что ограничение явилось как бы отражением античного воззрения на супружество как учреждение, имеющее целью рождение детей. Кроме того, продолжал свои размышления автор, если даже цель брака видеть в дополнении себя личностью другого, то и здесь нет взаимности, ибо лицо старческого возраста, нуждаясь в заботе и попечении, само уже не в состоянии составить опору другой личности, «а без такой взаимности и брак не соответствует своей идее»
.
Впоследствии церковным законодательством наибольший возраст был установлен в 60 лет, посему, как отмечал К.П. Победоносцев, «когда вступают в брак позже 60 лет, то, хотя это не противно гражданскому закону, для венчания требуется разрешение архиерея»
.
XX в. характеризовался колебаниями между 16- и 18-летним брачным возрастом. Так, в 1918 г. (по Кодексу законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве) он фиксировался в гендерной асимметрии (16 лет для женщин и 18 лет для мужчин), с 1926 г. (ст. 5 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР) был установлен 18-летний брачный возраст (с правом административного его снижения для женщин на один год
). С принятием соответствующих кодексов союзных республик наблюдался разброс решений. Так, к брачно-возрастной асимметрии (16–18 лет) прибегли Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения. Все республиканские кодексы допускали административное снижение брачного возраста, однако не тождественным образом (например, в РСФСР – на один год, на Украине – на полгода и т. д.)
.
Единства не было достигнуто и последующими республиканскими кодексами о браке и семье 1969 г. Например, на Украине и в Узбекистане (регионах совершенно различных географически и культурологически) брачный возраст для женщин был установлен в 17 лет. В РСФСР действовало гендерно нейтральное правило о возможности его снижения до двух лет (с 18 до 16). В семи союзных республиках – до одного года (в том числе на Украине, в Литве, Белоруссии, Грузии, Туркмении), а в шести – до 1 года, но только для женщин (в том числе в Казахстане, Эстонии, Молдавии). Как видим, в последних двух типах решений сколько-нибудь ясного и общего критерия (причины) также на наблюдается. Если учесть, что за заключением брака следует наступление полной гражданской дееспособности, то преимущественно лично-правовая (брачная) возрастная дифференциация, в сочетании с гендерными акцентами, превращаясь в имущественно-правовую (гражданскую), становится необъяснимой: половая зрелость как узаконенное основание сделкоспособности – это уже из области беллетристики, а не юриспруденции…
Одновременно цивилисты подчеркивали, что законодательство не устанавливает ни предельного брачного возраста, ни максимальной разницы в летах жениха и невесты, никак при этом не поясняя и не комментируя подобные решения
, – в отличие от цивилистов конца XIX – начала XX в. Преклонные лета (как правило, в сочетании со значительной возрастной дифференциацией) могут явиться лишь поводом к предположению о фиктивности брака
либо о фактической недееспособности и соответственно основаниями для признания брака недействительным
.
Действующее российское правило о брачном возрасте содержит в себе еще больше вариантов. Во-первых, сохранено административное усмотрение в вопросе его снижения до 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ). В процессе подготовки проекта семейного кодекса высказывались предложения об общем снижении брачного возраста (тем более что мировая практика знает подобные случаи), однако в итоге они были отклонены, видимо, в связи с тем, что такое решение споспешествовало бы поощрению ранних браков, по своей сущности незрелых и, как правило, нестабильных. Тем не менее, как справедливо отмечает М.В. Антокольская, переоценивать влияние законодательства в сфере брачности не следует: несовершеннолетие не препятствует вступлению в фактические брачные отношения, беременности и рождению ребенка в таком союзе, поэтому и предусмотрена возможность снижения брачного возраста в аналогичных и т. п. ситуациях, ибо отказ в регистрации таких отношений, если они уже сложились, ни к чему, кроме нарушения прав и игнорирования социально значимых интересов фактических супругов, привести не может
.
Во-вторых, введена новелла о региональном законодательном усмотрении о снижении брачно-возрастного барьера ниже федерального предела (от 16 до… 14?). Причем в проекте Семейного кодекса этот «скачок» был лимитирован 14 годами, а в проголосованном варианте данное ограничение исчезло. Норму ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ многие региональные законодатели восприняли как свободу решения, в принципе не связанного с географическими, культурологическими, социологическими обстоятельствами, и приняли законы с количественным разнообразием: ниже 16 лет (без предела, например, в Башкортостане), 14 лет, 15 лет. Так, в центральной европейской части, в том числе в регионах вокруг Москвы, – во Владимирской, Вологодской, Калужской, Тульской, Московской и др. областях допускается снижение до 14 лет, Рязанской, Тверской – до 15 лет и т. д., а в Ярославской области – соответствующий проект был отклонен и действует федеральная норма…
В 2002 г. Совет Федерации ФС РФ отклонил законопроект, предусматривающий для исключительных случаев допущение снижения брачного возраста ниже 16 лет (на общефедеральном уровне). Однако, как справедливо замечает Л.Ю. Михеева, приведенные примеры необоснованной разности подходов, свидетельствуют о том, что единообразное федеральное решение весьма желательно
, а индивидуализация его применения и будет осуществляться в рамках административного усмотрения – по типу действующей административной практики применения правила о снижении брачного возраста до 16 лет
. С этой позицией солидарны и другие авторы
, в том числе и мы. Так, М.В. Антокольская отмечает: «С одной стороны, в регионах, где традицией поощряется вступление в брак в раннем возрасте, возможно принятие законов, чрезвычайно упрощающих процедуру снижения брачного возраста, что может привести к массовому нарушению прав несовершеннолетних. С другой, при отсутствии такой возможности, браки с несовершеннолетними будут совершаться в соответствии с местными обычаями
, что приведет к еще меньшей правовой защищенности. Другая опасность заключается в том, что в ряде субъектов РФ такие законы могут вообще не приниматься, что не дает возможность заключения брака даже при наличии особых обстоятельств»
.
Видимо, общефедеральная граница снижения брачного возраста должна находиться на рубеже 14 лет
, без гендерных различий. Во-первых, по соображениям разумности. Во-вторых, по причине связанности более раннего брачного возраста с возможностью наступления гражданской дееспособности в полном объеме (п. 2 ст. 21 ГК РФ). В-третьих, в семейно-правовом контексте: с 14 лет формируется ограниченный по объему семейно-правовой статус «взрослого лица» (самостоятельная судебная защита, право в судебном порядке устанавливать свое внебрачное отцовство и, следовательно, приобретать комплекс родительских прав и обязанностей, что на практике (а теперь и в законодательстве) всегда было связано с перечнем оснований снижения брачного возраста). В-четвертых, в общеправовом: начала ведущих отраслей российского права (гражданского, уголовного, в существенно меньшей степени – административного, трудового) определяют 14 лет как ключевую точку отсчета для «запуска» ограниченного отраслевого статуса и правосубъектности.
В то же время, полагает М.В. Антокольская, коль скоро практика знает случаи беременности и рождения детей даже 13-летними, не должно исключаться решение и об ином снижении брачного возраста в строго индивидуальном порядке
. Истинно так. Однако в этой связи необходимо помыслить о трех вопросах. Во-первых, следует ли за столь эксклюзивным решением наступление полной гражданской дееспособности? Во-вторых, компетентны ли административные структуры на его принятие? В-третьих, должно ли вноситься изменение в административное законодательство об идентифицирующем личность документе (паспорте), выдаваемом, как известно, с 14 лет? Видимо, на первый и третий вопросы придется ответить положительно. Впрочем, с возможными исключениями
.
Что касается второго, то целесообразно подумать о передаче решения в судебную подведомственность
. Именно такая процедура предусмотрена во многих странах – либо для снижения брачного возраста в целом, либо в исключительных случаях (Великобритания, Польша, Нидерланды, Украина и др.
). Так, в соответствии с нормой п. 2 ст. 23 СК Украины право на брак может быть предоставлено лицу, достигшему 14 лет, по решению суда, если будет установлено, что это отвечает его интересам. В этой связи представляет также интерес предложение И.В. Бакаевой и В.Е. Стрегло об усилении связи между эмансипацией и брачной дееспособностью: факт эмансипации может заменить собой административное разрешение на снижение брачного возраста
(коль скоро и вступление в брак несовершеннолетнего представляет собой своеобразную эмансипацию). Кстати говоря, подобная параллель дополнительно аргументирует основательность идеи передачи решения о снижении брачного возраста (особенно ниже 16-летнего предела) судам – скорее всего, в подсудность мировой юстиции.
Как известно, европейская тенденция за последние 40 лет в основном стабилизировалась, чему в том числе способствовало и придание праву на заключение брака статуса одного из основных прав человека (ст. 12 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод): брачный возраст в большинстве стран уравнен с возрастом совершеннолетия (18 лет)
. В то же время имеются и расхождения: в ряде стран брачный возраст ниже возраста общегражданской дееспособности (Португалия, Англия и Уэльс, Шотландия), в других – сохраняется его гендерная асимметрия (либо по общему правилу, например, в Швейцарии – 20 лет и 18 лет, либо в контексте его специального снижения, например, в Польше
). Следует, впрочем, заметить, что указанная асимметрия в последние годы минимизирует свое присутствие в законодательстве. Так, во Франции более 200 лет брачная правоспособность мужчин начиналась в 18 лет, а женщин – в 15, однако в 2006 г.
правило стало гендерно-нейтральным и сходным с общеевропейским. Повсеместно (за редким исключением) допускается снижение брачного возраста, причем в отдельных случаях – ниже 16 и даже 14 лет
.
В восточных правовых системах гендерная асимметрия сохраняется (например, в Японии соответственно 18 и 16 лет, КНР – 22 и 20 лет), в мусульманских странах возрастная граница, как правило, не определена, хотя и наблюдается некоторая тенденция к ее установлению в рамках следования нормам международного права
и, разумеется, практически существует (если не процветает) гендерное возрастное различие
.
Таким образом, хотя «приключенческая» составляющая в вопросах начала брачной правоспособности присутствует в современных законодательствах не столь ярко, как ранее, отдельные позиции свою отчетливую индивидуальность сохраняют, включая гендерную дифференциацию брачного возраста.
Адресуясь к внутреннему российскому брачному законодательству, выведем ключевые аспекты, связанные с возрастными характеристиками, нуждающимися в осмыслении и/или перекоординации.
1. «Разногласие» регионального законодательства необходимо гармонизировать общей нормой на федеральном уровне, установив нижний предел в 14 лет.
2. Индивидуализация на региональном уровне в этой связи перейдет на усмотренческую область применения общей нормы к конкретному случаю.
3. С учетом гуманитарно трактуемого права человека на семейную жизнь (в том числе основанную на брачном союзе) следует подумать о допущении в особенных случаях снижения брачного возраста ниже федеральной границы, например, при рождении несовершеннолетней ребенка.
4. Такому же размышленческому режиму необходимо подвергнуть триаду идей: а) об ограничении дееспособности несовершеннолетнего супруга (14–16 лет? ниже 14 лет?) в части распоряжения недвижимостью, восполняемой судебным решением (а не через институт попечительства родителей или других лиц); б) о расширительном подходе к эмансипации: последствия решения по данному вопросу в принятом смысле (ст. 27 ГК РФ) могут быть распространены и на брачную правоспособность; в) об изменении административной подведомственности дела о снижении возраста брачной правоспособности (брачного совершеннолетия) на судебную (возможно, в рамках мировой юстиции, а, возможно, и в пределах компетенции районного суда – с учетом тенденции передачи ему споров о детях); как вариант – о дифференциации подведомственности на административную и судебную, с ориентацией последней на усмотренческое решение по особым, архиисключительным случаям (например, о снижении брачного возраста ниже 14-летней границы).
При этом в любом случае гендерная асимметрия явным образом будет отсутствовать в семейном законодательстве (кроме констатации оснований снижения брачного возраста, например беременности
) и явным образом присутствовать в правоприменительной практике.
* * *
В двойном дискриминационном поле находится фактический брак. Первый аспект дискриминации гендерно нейтрален: являясь реальной разновидностью супружества и даже «большим браком», чем законный (ибо совместное проживание, создание семейной общности ему присуще имманентно – в отличие от зарегистрированного супружества, где действует принцип свободы выбора места жительства и de facto можно длительное время проживать раздельно или вовсе в «фактическом разводе»
), не обеспечен юридическим признанием, в том числе семейно-правовой и судебной защитой интересов его участников.