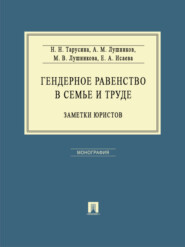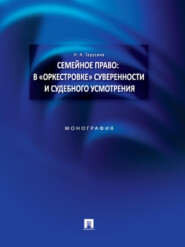По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гендер в законе. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
, то присутствие института однополого партнерства в ГК РФ неприемлемо. Во-вторых, не на всякую данность следует спешить законодательно реагировать – значительная часть отношений с семейным элементом лежит за пределами права. Этой идеи, как мы уже отмечали, придерживались классики цивилистики (М.И. Загоровский, Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, Е.М. Ворожейкин и др.
). Ее разделяют современные цивилисты-семейноведы
и политики
. В-третьих, на сущность и тенденции российской государственности, законодательства и правоприменительной практики de facto оказывают влияние ведущие религиозные конфессии, а православие и ислам полагают рассматриваемые отношения либо болезнью, либо грехом. В многоконфессиональной и исторически самобытной России с этим необходимо считаться, соблюдая, впрочем, осторожную меру в вопросе религиозного и государственного взаимодействия. В-четвертых, несмотря на исключение из международных документов о здравоохранении
гомосексуализма как заболевания, последний не становится от этого очевидной нормой.
* * *
Следующий шаг в пространство сомнений высвечивает проблему семейно-правового значения смены пола. Первый тип ситуации связан с фактом сокрытия соответствующим субъектом указанного обстоятельства при заключении брака. В принципе она может квалифицироваться как сделка, совершенная под влиянием заблуждения в субъекте (п. 4 ч. 1 ст. 178 ГК РФ является новеллой гражданского законодательства, к которой, впрочем, настойчиво призывали цивилисты
), а при преднамеренности действий контрагента по введению лица в заблуждение, включая умолчание о значимых обстоятельствах, – как сделка, совершенная под влиянием обмана (абз. 2 ч. 2 ст. 179 ГК РФ). Обман, как известно, может относиться не только к элементам самой сделки, но и к обстоятельствам, сопутствующим ее совершению, включая мотивы, влияющие на формирование воли обманутого лица
. «В тесном смысле, – отмечал И.Б. Новицкий, – термин «заблуждение» имеет место тогда, когда лицо ненамеренно и помимо чьего-либо воздействия (в противоположность, например, случаям совершения сделок под влиянием обмана) составляет себе неправильные представления или остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств и под влиянием этих ошибочных представлений или неведения делает такое выражение воли, какого оно не сделало бы, если бы не было заблуждения»
.
Советские семейноведы к возможности использования данных конструкций в институте брака относились с большой осторожностью. Так, Г.М. Свердлов писал, что заблуждение при заключении брака может иметь две формы – заблуждение в тождестве и заблуждение в свойствах лица. Если квалификация первой ситуации представлялась автору бесспорной, то второй – весьма сомнительной. Когда в гражданском праве, продолжал автор, речь идет о заблуждении в качестве полученной вещи или в свойствах лица, мы всегда имеем дело со свойствами легко определимыми и сопоставимыми; при заключении же брака речь идет о двух субъектах, которые выступают друг перед другом во всей сложности и неповторимости своих личных качеств – физических, нравственных, психических, интеллектуальных, и тщетно было бы пытаться установить в конкретном случае заблуждение в каком-либо одном или даже нескольких свойствах другого лица, поскольку за пределами этих свойств, относительно которых имело место заблуждение, остается еще много других свойств и качеств, которые в достаточной мере могут обосновать необходимость сохранения брака
. А.М. Белякова подчеркивала, что значимыми представляются заблуждение и обман относительно юридической сущности брака (в частности, условий его заключения), заблуждение же иного рода, в том числе в отношении состояния здоровья и т. п., не являются значимыми
. (Следует заметить, что советские авторы даже не предполагали, что речь может пойти о фактах перемены пола посредством медицинских манипуляций, которые вполне доказуемы). М.В. Антокольская отмечает, что заблуждение является понятием более широким, нежели обман, оно может возникнуть и в результате независящих от сторон причин или даже вины самого заблуждающегося супруга; существенным может быть признано и заблуждение относительно моральных качеств одного из супругов, например, брак с проституткой, лицом, осужденным за преступление; в практике ряда стран существенным считается заблуждение относительно способности супруга к брачной жизни, к производству потомства, гомосексуализм
.
На возможность подобных квалификаций нас ориентирует не только стратегическая норма ст. 4 СК РФ о субсидиарном применении гражданского законодательства, но и специальная норма абз. 2 ч. 1 ст. 28 СК РФ. Другое дело, что последняя упоминает об этом как бы мимоходом, отвечая на совершенно другой вопрос – о лицах, имеющих право требовать признания брака недействительным. Это, конечно, некорректно с точки зрения обыкновений законодательной техники и должно быть исправлено путем переноса сентенции о заблуждении и обмане, например, в ст. 27, но, однако, не отменяет самой обсуждаемой возможности. Более того, в связи с тем, что и заблуждение, и обман как основания признания сделки недействительной имеют весьма специфическую подоплеку и жизненные вариации, полагаем уместным и оправданным дать в ст. 27 СК РФ неисчерпывающий перечень ситуаций, в том числе указав и на факт сокрытия (преднамеренного либо непреднамеренного) смены пола.
Второй тип ситуации связан с переменой пола лица, уже состоящего в браке. Случай – не слишком распространенный. Однако, как совершенно справедливо замечает М.Н. Малеина, чтобы сделать определенные выводы, для юристов (в отличие от специалистов многих других наук) количественные показатели отнюдь не обязательны: даже единичные ситуации требуют своего решения
. Проблема коррекции пола порождает различные правовые вопросы: основания данного изменения в смысле юридико-фактическом (медицинские показания, решение врачебной комиссии, дееспособность транссексуала, акт волеизъявления); порядок осуществления коррекции; правовой статус лиц, подвергшихся указанной процедуре (в том числе изменение ЗАГС, выдача нового документа, удостоверяющего личность, пенсионные аспекты, связанные, в частности, с достижением пенсионного возраста, который у нас гендерно дифференцирован и т. д., а также семейно-правовое положение)
.
В контексте институтов брака и семьи правовые последствия до сих пор не определены. Так, например, Д.И. Степановым высказана идея о квалификации изменения пола как «социальной смерти» – с объявлением такого гражданина умершим по правилам ст. 45 ГК РФ
и прекращением брака. М.Н. Малеина
и Л.А. Смолина
подчеркивают, что изменение пола не должно приравниваться к биологической смерти: не открывается наследство, не прекращаются права и обязанности (в том числе алиментные, совместной собственности, относительно семейного жилища и т. п.), не возникает ситуации явки гражданина, объявленного умершим (ст. 46 ГК РФ). Л.А. Смолина предлагает новеллировать не гражданское, а семейное законодательство путем дополнения нормы п. 1 ст. 16 СК РФ: «Брак прекращается… а также при изменении пола одним из супругов». Таким образом как бы фиксируется юридическая смерть возникшего (но не допускаемого законом) однополого супружества, союз аннулируется автоматически, без расторжения (видимо, по факту регистрации органов ЗАГС смены пола). М.Н. Малеина считает целесообразным, во-первых, внести дополнение в законодательство об охране здоровья граждан, об обязанности врача сообщать о состоявшейся операции и ее последствиях другому супругу
, во-вторых, предусмотреть аналогичную обязанность по информированию заинтересованных лиц об успешно проведенной операции в письменном договоре между пациентом и медицинским учреждением, в-третьих, прекратить брак путем его расторжения по причине невозможности сохранения семьи. Автор не исключает (по крайней мере, категорически) и другую возможность – сохранение брака на основе кардинального изменения семейного законодательства – при трансформации традиционного супружества «в иной союз между однополыми людьми, ведущими общее хозяйство, воспитывающими общих детей, но не выполняющими ролей мужа и жены по отношению друг к другу»
. В этой связи также возникает проблема изменения записи о родительстве и смены отчества ребенка. Однако, полагает Н.А. Темникова, последнее действие не отвечает интересам ребенка, поэтому производиться не должно; для исключения различного толкования ситуации в СК РФ следует предусмотреть прямое о том указание
. (Поскольку речь о допущении однополых браков и семейных союзов с детьми впереди, ограничимся рассматриваемым частным случаем).
Прекращение брака путем его расторжения, конечно, отвечает современной либеральной модели правового регулирования отношений с семейным элементом. Можно, например, предусмотреть право второго супруга обратиться в орган ЗАГСа с заявлением о разводе в бесспорном порядке (по типу правила п. 2 ст. 19 СК РФ). А если этого не произойдет? Предоставить указанному органу право прекращения брака в уведомительном порядке?.. Возможно также превентировать конфликтную ситуацию: установить согласованные правила медицинского и семейного законов о принятии лицом, претендующим на официальную смену пола и состоящим в браке, обязательства о бесспорном прекращении брачного союза одновременно с заявлением о регистрации смены пола. В этом случае безразличной законодателю становится позиция другого супруга. Впрочем, подобный вариант существует в связи с безвестным отсутствием, объявлением лица недееспособным или осуждением его к лишению свободы на срок свыше трех лет. Так или иначе на реакцию следует решиться. Возможно, в самостоятельной главе СК РФ, посвященной всем аспектам семейно-правовой природы, связанным с изменением пола, применением ВРТ, включая семейно-правовые последствия указанных актов.
* * *
Гендерный контекст присутствует и в семейно-правовом предписании о единобрачии (ст. 14 СК РФ). Однако и ранее, и в настоящее время это условие для целого ряда стран далеко не догма. Так, даже в Российской империи в виде исключения допускались и многоженство для магометан, и полиандрия (соединение нескольких мужчин с одной женщиной)
. Как известно, и в настоящее время проблема не только теоретически ставится в российской цивилистике, но и практически воплощается путем издания противоречащих федеральному законодательству актов о разрешении многоженства (попытка легализации полигамии в Республике Ингушетии, Республике Чечне). Так, постановлением № 32 от 11.07.1999 Администрации г. Урус-Мартан «О некоторых мерах по приведению в соответствие с нормами Шариата супружеских отношений» рекомендовано «пересмотреть свой жизненный уклад и изыскать возможность для заведения от двух до четырех супруг».
Дело не в очевидной незаконности любых подобных актов, а в необходимости считаться с иными воззрениями на брак, существовавшими параллельно моногамии и не являющимися аномалией (в отличие от однополых союзов), следовательно, в допущении федеральным законом исключений из моногамии для соответствующих территорий, а может быть, и в целом национальностей независимо от места их оседлости. (Так, например, во Франции многоженство было запрещено только в 1993 г.
)
Немаловажной информацией к размышлению является и постоянная диспропорция полов. Правильного соотношения числа женщин и мужчин на Европейском континенте, отмечает М. Босанац, не существует уже несколько столетий – женщин значительно больше; причина такой несоразмерности – в более высокой смертности мужчин и в их более активной эмиграции
.
Биологическое, в том числе материнское, начало нередко ведет женщину по пути внебрачных связей и внебрачных рождений. Насколько противен натуре женщины иной путь – «обыденный» (полигамный) брак?.. Разумеется, представители эмансипированных организаций либо категорически отвергают (и уже неоднократно отвергали этот вариант), либо требуют гендерного равенства, т. е. права женщины иметь несколько мужей. Россия, конечно, европейская страна, но, ориентируясь на западные страны, пристально вглядывается в восточные тонкости бытия…
Следует заметить, что подходы к рассматриваемой версии действительно несколько либерализируются. «Проблема, по-видимому, – замечает М.В. Антокольская, – упирается в решение вопроса о том, в какой мере моногамный брак можно рассматривать в качестве универсальной ценности, имеющей внерелигиозное значение»
. И.А. Трофимец полагает, что для России допущение полигамии (ее мужской версии – полигинии) явилось бы эффективным средством разрешения ряда социальных проблем: 1) об охране семьи и интересов женщины при фактической полигамии; 2) гендерной диспропорции; 3) преодоления демографического кризиса
. «Дозволение многоженства, – продолжает автор, – удовлетворяло бы интересам не только мусульманского населения России, но и тех лиц (как мужчин, так и женщин), которые приемлют данную форму брака»
. Последняя часть тезиса, не несущая в себе национально-восточного «флера», вполне обоснованно может быть оспорена в контексте гендерного равенства и гендерной нейтрализации законодательства.
Заявил по данной проблеме свою позицию и Конституционный Суд РФ. В определении № 851-О-О от 18 декабря 2007 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рязанова Нагима Габдылахатовича на нарушение его конституционных прав положениями п. 1 ст. 12 и 14 Семейного кодекса Российской Федерации»
было констатировано, что Россия является светским государством, поэтому религиозные установления, «допускающие полигамию брачных союзов, иной подход к решению этого вопроса в ряде других государств, не могут оказывать влияния на государственную политику в области семейных отношений, основные начала которой характеризуются, в частности, принципом единобрачия (моногамией), исходящим из отношения к браку как биологическому союзу только одного мужчины и одной женщины, что не допускает одновременного нахождения в нескольких браках». Суд подчеркнул, что позиция Семейного кодекса РФ основана на идее равных прав мужчины и женщины на брак и семью и соответствует норме ст. 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей в области регулирования семейных отношений приоритет национального законодательства.
Разделяя данную правовую позицию в принципе, тем не менее заметим ее некоторую «шероховатость» в деталях. Во-первых, акцент на биологичность супружеского союза, опираясь на общее фактическое правило, не основан на прямом толковании семейного закона и не универсален по жизни. Во-вторых, как известно (что мы неоднократно и подчеркивали), равенство также не относится к абсолютным величинам – оно уступает исключениям в тех случаях, когда ситуация требует особой охраны значимых интересов (по мысли И.А.Трофимец и др., таковые для полигамного контекста брака наличествует или, по крайней мере, требуют дополнительных размышлений законодателя – при том, что в странах, где полигамия разрешена, к ней прибегает далеко не каждый мужчина). В-третьих, ссылка на ст. 12 Конвенции, конечно же, безупречна, однако только в том смысле, что национальные колориты семейного законодательства возможны. Она ничего не объясняет по существу проблемы
.
* * *
Юриспруденция постоянно выстраивает возрастные барьеры (трамплины, непреодолимые препятствия), опираясь на некие относительно объективные критерии, руководствуясь традициями и обычаем либо вовсе черпая решения из таинственного источника. Семейно-правовая сфера изобилует всем разнообразием указанной методологии проектирования возрастной архитектоники. Достаточно ярко это проявляется в институте брака. В историческом и сравнительно-правовом аспектах возраст как юридический факт окрашен и в цвета гендера, ибо весьма часто (а в прошлом – как правило) он различен для мужчин и женщин.
Так, согласно Кормчей книге, минимальный брачный возраст устанавливался в 15 лет для мужчин и 12 лет для женщин. Однако браки совершались и в более раннем возрасте: Святослав Игоревич в 1181 г. был возведен в супружество 10 лет от роду; дочь суздальского князя Всеволода Юрьевича Верхуслава в 1187 г. была выдана замуж за 14-летнего Ростислава Рюриковича «млада суще осьми лет»; Иван III был обручен («окутан») «девицею 5 лет»
. В крестьянской среде девушек старались выдавать замуж в несколько более старшем возрасте – часто к 16–18 годам, когда они становились способными самостоятельно выполнять нелегкие домашние обязанности по уходу за скотиной, готовке пищи и заготовке продуктов впрок
. Верхний возрастной предел, а также разница в возрасте формально не предусматривались – священникам по этому вопросу давались лишь общие рекомендации по опросу брачующихся («не в престарелых ли летах», нет ли «великой разницы в летах»)
.
В Указе Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 г. была предпринята попытка увеличить законный брачный возраст: «…И дабы кадеты обоих полов каким образом не были притеснены в молодых летах, того для невольно в брак вступать ранее, мужского пола до двадцати, а женского до семнадцати лет» (ст. 5)
. Однако петровское новшество оказалось нежизнеспособным, осталось как бы незамеченным. Синод продолжал руководствоваться Кормчей книгой и предписывал брачный возраст соответственно с 15 и 13 лет. Лишь в 1830 г. Указом Синода, чтобы, по возможности, предотвратить неблагоприятные последствия столь юных союзов, принято было за благо определить возрастной ценз в 18 и 16 лет (жителям Закавказья – 15 и 13 лет, для кочевых инородцев Восточной Сибири – 16 и 14, жителям Финляндии – 21 и 15)