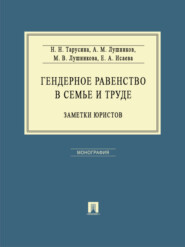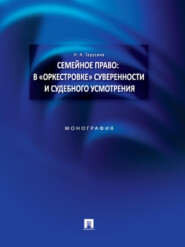По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гендер в законе. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
.
(«Новый запрет, – внешне сдержанно констатирует М. Арбатова, – Россия ввела одновременно с фашистской Германией. С 1936-го по 1955 г. за криминальные аборты было осуждено и расстреляно 500 тыс. врачей и женщин, статистика умалчивает, сколько погибло от криминальных абортов»
).
В условиях усиливающейся реакции в «книгу жизни» в духе Дж. Оруэлла продолжали вписываться новые страницы, среди них – ярчайшая по своей негативной энергетике – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. с названием, отражающим лишь незначительную, пусть и важную, часть его содержания: «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”»
.
По точной характеристике М.В. Антокольской, указ мгновенно отбросил наше законодательство на столетие назад
, его негативные последствия сказались на многих поколениях
. В категорическом негативе оказалась триада: брак, развод, внебрачное родительство.
Во-первых, за скобки правовой защиты был выведен фактический брак. В юридической литературе зазвучали мотивы о государственном подходе к браку
. Так, Н.В. Рабинович писала, что «брак есть не частное дело людей, а правовой институт, который имеет крупнейшее общественное значение» и потому не может «происходить без участия государственной власти»; к тому же «культурное развитие женщины и рост ее материальной самостоятельности устраняет потребность в особой охране ее на случай вступления в незарегистрированные брачные отношения»
. В.И. Бошко также полагал, что общественно-политическое значение указа трудно переоценить: изданный «в сложной обстановке войны, он с новой силой и предельной ясностью выразил исключительную заботу Советского государства об укреплении семьи, о детях и матерях…»
.
Во-вторых, кроме осуждения незарегистрированных союзов (их участников, кстати, «любезно» пригласили к регистрации, хотя многие из них воевали на фронтах…), была подвергнута «вивисекции» и свобода развода: введена исключительная судебная процедура в два этапа (примирение в районном народном суде и решение по существу – в вышестоящем) – с предварительной публикацией в местной газете о возбуждении дела, повышена госпошлина, введена публичность процедуры.
П.Л. Полянский сравнивает положение данного указа о разводе с бракоразводной процедурой до 1917 г.: роль, которую до октября 1917 г. играла духовная консистория, теперь досталась народному суду
. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 сентября 1949 г. № 12/81/У предписывалось, что расторжение супружеского союза допустимо, если заявление «вызвано глубоко продуманными и обоснованными причинами и… дальнейшее сохранение брака будет противоречить принципам коммунистической морали…»
. Одностороннее или даже обоюдное желание прекратить брак не являлось, с точки зрения Верховного Суда 1940—1950-х гг., достаточным основанием для положительного решения. Если суд приходил к выводу, что для расторжения брака нет оснований, он должен был разъяснить супругам неосновательность мотивов, на которые они ссылаются, «помочь им прийти к примирению и тем самым сохранить семью». При несоблюдении народным судом правил по примирительному производству вышестоящий суд отменял его определение и возвращал дело для выполнения всех мер к примирению супругов. При рассмотрении дела о расторжении брака по существу областные (краевые, республиканские) суды не должны были ограничиваться материалами народных судов, а были обязаны по собственной инициативе выяснить действительные мотивы развода
. Однако П.Л. Полянский подчеркивает, что все же за внешним сходством подходов к исключительности развода скрывались совершенно разные основания: задачей канонического права являлось поддержание своеобразной «половой дисциплины», обеспечение священности супружества или божественного таинства; истоком «реабилитации» брака в 40-е гг. являлось «желание советского государства укрепить семейные связи»
.
Поставить точку в вопросе о сущности брака, исключительности развода, лично-правовом и имущественно-правовом статусе супругов должны были Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, проекты которых в духе 30—40-х гг. были разработаны еще при жизни И.В. Сталина. Однако его смерть, события XX съезда КПСС, временное упразднение Минюста (1956 г.) и другие обстоятельства оттянули принятие Основ до 1968 г.
Истинно «драконовской» мерой явились и положения указа о внебрачных детях – не допускалось ни добровольного, ни судебного признания отцовства, в графе «отец» ставился прочерк
.
Через 35 лет после принятия указа от 8 июля 1944 г. известный социолог семьи А.Г. Харчев, обобщая тенденции семейного законодательства того периода и отвечая на критику последнего западными социологами, писал, что никакого отрицания позиций 1926 г. указом 1944 г. не произошло: в переходный период «на первом месте стояли задачи преодоления экономического и нравственно-правового неравноправия женщин в семье и обществе, а к 1944 г. эти задачи были в основном уже решены»; а самое главное, «наряду с мерами, облегчающими и поощряющими деятельность женщин в семье, и особенно материнство, законодательство 1944 г. предусматривало и ряд мер к тому, чтобы эта деятельность не мешала производственной и общественной работе женщин (строительство женских консультаций, детских садов, яслей и т. д.)»; оно было «направлено не против участия женщин в социальной жизни, а против противопоставления социальной и семейной жизни»
. (И ни слова о безответственности мужчин! Между тем последним была предоставлена значительная свобода сексуальной жизни
(лишь бы не разводились – за это их осуждал партком, профком и суд), им не грозило установление отцовства, алиментные обязательства и порицание за распущенность).
Эта «промужская» политика, справедливо отмечает O.A. Хазова, загоняла женщину в тупик
: доступ к медицинскому аборту закрыт, отца у ребенка не будет (если только он не «пойдет на брак» или не усыновит собственного ребенка), меры государственной помощи не адекватны, а «сдача» ребенка в детдом для нормальной женщины – жизненная драма.
Перед кодификацией 1968–1969 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 г. «O некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака»
были отменены правила о публикации в газете информации о разводе и двустадийность бракоразводного процесса. Следует заметить, что за 1 г. данной либерализации разводимость резко возросла. Так, в 1940 г. на 1000 человек населения мы имели 1,1 развода, в 1950 г. (через пять лет после принятия указа 1944 г.) – 0,4, в 1960 г. – 1,3 (т. е. больше, чем до указа), в 1966 г. – 2,8. Резкий скачок 1966 г. объяснялся прежде всего тем, что были расторгнуты браки, фактически распавшиеся ранее
, что еще раз подтверждает аксиому о невозможности достижения стабильного эффекта семейно-правовыми регуляторами жесткого типа. Эта тенденция продолжалась еще несколько лет. Затем разводимость несколько снизилась, но в конце 70-х гг. снова начала расти. Однако причины были уже другие: разводы перестали осуждаться обществом, рос уровень жизни, развивалось самосознание женщин (в 65–70 % случаев они были инициаторами прекращения брака
; «хрущевская оттепель» дала новый импульс и взаимоотношениям мужчины и женщины).
В Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье
были заложены базисные предпосылки, в том числе брачного права, как для прямого их применения, так и в качестве «векторов» для 15 республиканских кодексов о браке и семье: признание браком только супружеского союза, зарегистрированного в органах ЗАГС, условия его действительности (недействительности), взаимосвязь супружеских и родительских правоотношений (вопросы воспитания детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно), вариативность способов расторжения брака (административный, судебный), обеспечение интересов детей при разводе. Взаимосвязь супружеских и семейных отношений была подчеркнута и более поздними нормативными актами. Так, Закон СССР от 22 мая 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства»
, изменил редакцию ч. 3 ст. 14 Основ 1968 г., обязав суд при рассмотрении дела о расторжении брака принимать меры не только к примирению супругов, но и к оздоровлению семейной обстановки.
Третий систематизированный акт – Кодекс РСФСР о браке и семье 1969 г.
Он явился конкретизацией для России указанных Основ и был средоточием императивных и диспозитивных начал регуляции в общем прогрессивном контексте – с некоторым, впрочем, уклоном в обеспечение публичных интересов. К числу его демократических начал следует отнести: упрощение бракоразводной процедуры (возврат к альтернативе – орган ЗАГС или суд), расширение согласительной сферы (соглашение об алиментах, о месте проживания ребенка и порядке общения с ним второго родителя, разделе имущества), защита социально слабого при разделе общесупружеской собственности (жизненно важных интересов детей и одного из супругов), равный статус детей, возможность добровольного признания отцовства и судебного его оспаривания или установления.
Кодекс 1969 г., дополненный в конце 1980-х – начале 1990-х гг., «продержался» до 1995 г. После принятия части I ГК РФ (1994 г.), в которой были отражены результаты всестороннего реформирования российского общества, назрела острая необходимость его замены более либеральным, современным, «рыночным» законом.
2.2. Гендер в законе: брак, семья,
родительство, попечение
Гендер в системе «агентов» влияния. Однополые браки: концепт в духе «пятой колонны»; позиция российского законодательства. Семейно-правовое значение смены пола. Гендер и полигамия. Брачный возраст: гендерные «оцифрованные» предпочтения. Фактический брак в энергетике дискриминационного поля. Партнерства. Гендерные диссонансы бракоразводного процесса. Родительство и гендер: презумпция отцовства, внебрачное отцовство, споры о детях; охрана интересов насцитуруса и право женщины на прерывание беременности; семейно-правовые, этические и фактические аспекты применения вспомогательных репродуктивных технологий. Об однополом родительстве и попечительстве: «война миров» или «толерантность»?
В конце XX и начале XXI в. наиболее активными «агентами влияния» при проектировании семейно-правового пространства выступили конструкция договора, национально-региональный контекст законодательства, применение вспомогательных репродуктивных технологий и гендер, в том числе во взаимодействии друг с другом. Поскольку непосредственным и специальным объектом нашего внимания является последний, он и будет играть главную роль в соответствующем юридическом спектакле, впрочем, лишь одном из многих на семейно-правовой сцене.
Следует сразу заметить, что значительная часть материи семейного законодательства гендерно нейтральна: равенство составляет принцип построения семейных отношений, супруги объявляются равными партнерами, свободными в выборе брачной фамилии, рода занятий, места жительства, режима отношений собственности, решения иных вопросов семьи, основанной на браке; родители, родственники, опекуны и попечители имеют равные возможности и обязательства (в рамках соответствующего статуса) относительно детей.
В то же время существуют, как мы уже отмечали ранее, объективные и субъективные предпосылки гендерной семейно-правовой дифференциации. Обратимся к подробностям.
* * *
Размышления у парадного подъезда учреждения брака о таинстве, конструкции особого рода либо договоре могут продолжаться «до заговенья» известного полезного овоща. Но как только наши мысли сосредоточатся на задаче войти в это учреждение, чтобы воспользоваться его услугами (или хотя бы проанализировать их качество), становится очевидным, что юридическим фактом к браку является заключение соглашения, в результате чего граждане приобретают статус субъектов особого правоотношения супружества (в каком-то смысле – и рамочного договорного обязательства), минимум содержания которого предполагает неопределенный набор юридических элементов и бесконечное, индивидуальное разнообразие элементов фактических
. Это, на наш взгляд, в принципе объединяет означенную в начале и дискутируемую в науке триаду сущности явления брака
.
Дорожная карта следования по дискурсивному брачному пространству предполагала, предполагает и будет предполагать множество точек-остановок для конструирования доктринальных «фантазий» и прикладных решений – о природе брака, его моногамном или полигамном, гетеросексуальном или унисексуальном контекстах, степени ценности государственной регистрации и государственного контроля в целом, условиях заключения, статусе супружества и прекращении означенного статуса
.
Одна из них – об объективной заданности или субъективной оспоримости идеи о гетеросексуальном характере брака. Эта проблема уже далеко не нова и имеет два противоположных решения, основанных на двух противоположных «аксиомах»: 1) природа и первоначальная история полагают браком союз мужчины и женщины; 2) из универсальности конструкции прав человека следует право на брак всякого, независимо от его/ее сексуальной ориентации.
Сразу оговоримся, что судебно-конституционную позицию по данному вопросу, традиционную аргументацию и предложения с «другого берега», сентенции религиозных конфессий мы рассмотрим несколько позднее, предпочтя начать рассуждения со свежего материала – двух нетривиальных социологических позиций, одна из которых предполагает сохранение status quo, а другая претендует на «новый концепт» брака и роль «пятой колонны» в брачном пространстве.