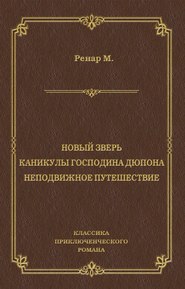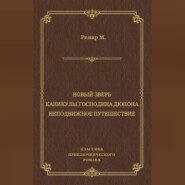По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Руки Орлака
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С тех пор как два с лишним месяца тому назад Стефен перебрался из клиники профессора Серраля в дом отдыха в Нёйи, отец навещал его каждые две недели. Сопровождаемый шевалье, который еще более усердно, чем обычно, пытался быть душой общества (но с тем же успехом мог бы пытаться развеселить группу погребальных статуй), Орлак-старший садился рядом с сыном, бросал вокруг него хищные взгляды и рассматривал Стефена с жалостью, смешанной с презрением. Мсье де Крошан, всегда насмешливый, хотя порой и тривиальный, явно не без причины когда-то прозвал своего старого друга «лаконичным отцом»: его безмолвный и суровый рот, не знавший улыбки, наводил на мысль о наглухо заколоченной двери. По прошествии какого-то времени он смотрел на часы и уходил, за весь визит произнося лишь «здравствуй» и «до свидания». Мсье де Крошан неизменно вставал и тоже направлялся к выходу. Они удалялись вместе, словно доктор Тем-Хуже под руку со своим коллегой Тем-Лучше[23 - Доктора из басни Жана де Лафонтена «Врачи», спорившие у смертного одра больного о том, как следует лечить его недуг. У Лафонтена их имена звучат как Tant-Pis (Тем-Хуже) и Tant-Mieux (Тем-Лучше).].
Подобные визиты, учитывая состояние Стефена, были совершенно противопоказаны. Серраль предписал ему режим отдыха и развлечений, но случавшиеся дважды в месяц встречи со злюкой-отцом едва ли могли его развлечь.
По правде сказать, с этих свиданий выздоравливающий возвращался более хмурый, чем был до них. Хотя, казалось бы, куда уж более?..
Розина заметила мужа еще издали: он сидел в складном кресле под тентом в красную и серую полосы. Сынишка директора, устроившийся рядом на табурете, что-то ему читал, но он не слушал; взгляд его был устремлен в пустоту. Мальчуган потянул его за рукав, и Стефен ласково потрепал его белокурые волосы.
Что, впрочем, не помешало Орлаку через пару мгновений снова загрустить.
Он был так близок к смерти, что все даже задавались вопросом, не стало ли его выздоровление, в сущности говоря, воскрешением; и сначала, видя мужа таким серьезным, Розина порой была склонна полагать, что он побывал в краю призраков и что его меланхолия вызвана воспоминаниями о преисподней…
Причина этой грусти более проста и не столь изящна.
Вступив в период выздоровления, Стефен не способен был думать ни о чем другом, кроме своих рук.
После того как он избежал гибели, находиться здесь, ходить по земле среди людей своими собственными ногами, быть в состоянии, как все, целыми и невредимыми руками хватать, ощупывать, гладить, ясными глазами созерцать природу – похоже, все это для него мало что значило.
Он ничего не говорил. Вообще никогда об этом не упоминал. Розина же не осмеливалась сделать даже малейшего намека. Его правая нога оставалась чуть более короткой, чем левая, руки от плеча до кисти были все еще слабы, а сами кисти рук Орлака возвращались к жизни крайне медленно; и он, виртуоз, похоже, страдал от постоянного онеменения кончиков пальцев, из-за которого они, эти пальцы, никак не могли обрести прежние навыки.
Чувствовалось, что он терзаем тревогой, оскорблен в самой благородной своей гордости, цепляется за отчаянную надежду вернуть былой талант. Он ревностно скрывал свою неполноценность, все еще веря, что она временная, желая над ней восторжествовать, ленясь разрабатывать пальцы. Он боялся проявить свою неуклюжесть на публике. Несомненно, он был очень несчастлив.
Розина уже подошла к мужу. Стефен смотрел на нее так, как если бы это была некая прозрачная фигура, сквозь которую он наблюдал что-то другое.
Стефен Орлак был невысокий мужчина, хрупкий и энергичный. Его округлившиеся черты выдавали слабость характера. Он был все еще бледен из-за потери крови. Лицо его зигзагообразно прореза?ли два или три шрама. На затылке, среди каштановых волос, бледной отметиной был прочерчен еще один. К креслу были приставлены костыли; вскоре он сможет обходиться одной лишь тростью.
Маленький чтец умолк; Стефен, задремав, закрыл глаза.
Розина воспользовалась этим для того, чтобы осмотреть его руки; и, как всегда, она почерпнула в этом осмотре веру.
Разумеется, эти руки прошли через жестокое испытание; десятки рубцов покрывали их мерзкой красновато-фиолетовой сетью. Но в конце-то концов, все же было на месте! Трещины прекрасно зажили. Под кожей, которой еще предстояло смягчиться, отчетливо виднелись косточки, такие, какими они и должны быть. Если оценивать форму кистей рук в целом, то в ней не было ничего такого, что могло бы приводить в отчаяние. На месте Стефена Розина была бы полна бодрости и задора!
Но в плане энергии Стефен и Розина отличались как небо и земля; и после катастрофы Стефен, похоже, совершенно утратил твердость духа, и, раз уж Розина позволила нам проникать в глубины ее сердца, читателю следует знать, что именно это беспокоило и озадачивало ее больше всего.
Нет! Какое бы несчастье ни угрожало пианисту, каким бы беспомощным он себя сейчас ни чувствовал, было просто неестественно, что Стефен так вяло противился терзающим его опасениям! Его дурные предчувствия были слишком странными, мечты слишком робкими, а уловки, призванные обмануть и успокоить всех тех музыкантов, любимых преподавателей и так далее и тому подобное, которые являлись его навестить и покидали в полной уверенности, что он сможет играть с прежней виртуозностью, слишком изворотливыми. Руки – ерунда. Все дело было в мозге. Серраль не сумел устранить последствия травмы. Более того, казалось, что странность Стефена является последствием операции! В его собственном «я» появилось что-то новое, неожиданное, поразительное, некий едва ли не чудовищный элемент, сотканный из страха, растерянности и тщеславия, элемент, который никак нельзя было оправдать состоянием его рук!..
– Он спит? – прошептал позади мадам Орлак мужской голос.
Розина обернулась. Это был профессор Серраль.
– Не будем его будить, – сказал он.
Хирург и молодая женщина пошли по аллеям парка.
– Я как раз, – произнесла Розина, – хотела поговорить с вами, доктор.
– Похоже, о чем-то серьезном.
– И да и нет… Прошу вас сказать мне – только абсолютно честно, – какого рода операцию на головном мозге вы сделали моему мужу.
Она говорила отрывисто, щеки ее горели.
– Без проблем, милочка, хотя определение «на головном мозге» тут и не совсем подходит. Вот только затем и я, в свою очередь, хотел бы знать, почему вы именно сегодня задаете мне вопрос, на который я откровенно ответил бы уже на следующий день после операции.
Розина давно уже пообещала себе расспросить Серраля. Но до сих пор в присутствии хирурга у нее словно отнимался язык. Его авторитет был столь велик, его имя было окружено таким ореолом честности и порядочности, что, когда он подходил, вы оказывались не способны вымолвить и единого слова. Он был из тех выдающихся людей, чье присутствие одновременно подавляет и успокаивает. Если теперь мадам Орлак и решилась заговорить, то вовсе не потому, что она больше, чем обычно, беспокоилась за мужа, но лишь из-за того, что профессор навещал Стефена так часто, что мало-помалу становился для нее обычным человеком. Престиж ученого с каждым днем рассыпа?лся под действием привычки; в этот день от него откололся еще один крупный кусок.
Серраль закончил свое объяснение. Он говорил о трепане[24 - Имеется в виду инструмент для сверления кости при трепанации.] и пиле. Операция была простейшая, но очень деликатная. В общем и целом все можно было резюмировать одним грубым словом – «чистка». Перелом затылочной кости привел к ушибу и сдавливанию задней доли головного мозга. Осколки торчали во все стороны. Пришлось проделать обширный oculus[25 - Буквально: глаз (лат.).], тщательнейшим образом все почистить и «закрыть» дыру.
– Короче, – сказала Розина, – ничего особенного, новомодного?.. Никаких… заборов крови… переливаний?..
– Ну и ну! – воскликнул Серраль. – Что за мысли?.. Как это вообще вам взбрело в голову, милочка?
Розина еще сильнее покраснела и опустила голову. Хирург остановился и внимательно посмотрел на нее, крайне заинтригованный.
Серраль. В его ясных глазах светилась доброжелательность. Статуи, которые установят в его честь на городских площадях, не будут иметь той представительности, какой обладает он сам. На постаменте можно будет прочесть таких три слова: «Знание, Сила, Доброта».
Розина пролепетала дрожащим голосом:
– Прошу прощения. Да-да, я прекрасно знаю, что вы говорите мне правду. Вы от меня ничего не скрываете. Я вам верю…
– Полноте, да что это с вами?
Она была похожа на девочку, объясняющую, что ее так сильно расстроило. Она и хотела бы не плакать, эта девчушка, но сдержать слезы было не так-то и просто. В ответ послышались лишь заикания, всхлипывания и рыдания, перемежающиеся странными мелодичными звуками, которые могли бы показаться смешными, не будь они исполнены такой печали:
– Мой муж… не… не такой… как раньше. Разумеется, он и раньше не был… сверхэнергичным. Вовсе нет!.. Ах!.. Я… я подозревала, что его… руки… причиняют ему страдания. Но право же!.. Теперь… теперь вся его жизнь сводится… к страху, что он никогда больше не сможет играть… на рояле. Вы скажете, что это… что все это… катастрофа! Несчастье, да, даже огромное несчастье, если хотите!.. Но в конце концов, в жизни ведь есть… не только рояль!.. Да, он любит меня! О да! Но не так сильно, как… свои руки!.. Даже если бы он предал свою страну… был бы приговорен к смерти за измену, вы бы не… не увидели его таким отчаявшимся… Это уже не он!.. Не он!..
Она не переставала сморкаться. Глядя на нее с состраданием, Серраль сказал:
– Со временем, милочка, все образуется. Силы вернутся, а с ними – выдержка и стойкость. Не забывайте, что мсье Стефен Орлак перенес сильнейшее кровотечение, после которого выжили бы немногие земные создания… Я даю вам честное слово, что растворы, использованные мною для замены крови, не содержали никаких элементов, способных изменить жизненный ритм пациента.
– Значит, никакой – как бы это выразиться? – никакой… животный принцип…
– В том смысле, который в это вкладываете вы, – нет, милочка. И вообще, если позволите заметить, ваши опасения вызывают у меня улыбку. Насколько я вижу, вам не дают покоя все те истории, которые в наши дни пишут, образно говоря, за бортом науки… Мы имеем дело с вполне обычным случаем ослабления организма. Когда последствия травмы совершенно исчезнут; когда мозг, должным образом орошенный, начнет работать как следует; когда руки восстановят свою функцию…
– А что вы, собственно, думаете о его руках?
– Врач никогда не знает наверняка, в какой мере природа пожелает постараться довести свое творение до совершенства. Вот и я не могу сказать, сможет ли ваш муж когда-либо продолжить свою карьеру виртуоза. Еще раз повторю: я сделал все, что было в моих силах; и как сказал бы мой предок: я его вы?ходил, Бог его излечит!
В ответ на обескураженный жест Розины он покорно, с некоторой печалью во взгляде произнес:
– Вы – точь-в-точь как ваш муж. Вы не осознаете, что в этот час он должен был бы уже лежать под шестью футами земли или, как минимум, быть одноруким, одноногим и, быть может, идиотом. Вы сердитесь на меня за незавершенность моей работы, не желая признавать, что моя великая коллега-жизнь не закончила свою… Впрочем, не важно! Вам многое простительно, потому что вы сильно любите… Не накручивайте себя, милочка; ничего не преувеличивайте; будьте справедливы и разумны. Это свойственно выздоравливающим и, в общем-то, всем обессиленным – вести себя так, как себя ведет мсье Стефен Орлак. То, что сегодня его страшит, завтра будет ему лишь досаждать. Давайте через год встретимся – и посмотрим, был ли я прав. Пока же я полагаю, что мсье Стефену Орлаку будет полезно вернуться домой. Я возлагал на его моральный дух гораздо бо?льшие надежды – чего уж скрывать. Похоже, ему нужен дополнительный курс лечения. Привычная среда, где он будет окружен любимыми вещами, должна подействовать на него благотворно. Пусть на какое-то время снова окунется, образно выражаясь, в околоплодную жидкость – вам лишь останется затем его оттуда вытащить. Я сейчас его осмотрю и выпишу exeat[26 - Буквально: отпускной билет (лат.). Здесь: справка о пребывании в лечебном учреждении, выдаваемая при выписке.].
– Вы только представьте себе, – сказала Розина, немного успокоившись, – только представьте себе: я дошла до того, что начала расспрашивать его о нашем совместном прошлом, чтобы удостовериться, что он – это действительно он!
Она смеялась, уже готова была насмехаться над самой собой. Но Серраль взял Небо в свидетели этой несусветной глупости.
– О литература! – воскликнул он. – Чему ты учишь нашу молодежь?
* * *
Подобные визиты, учитывая состояние Стефена, были совершенно противопоказаны. Серраль предписал ему режим отдыха и развлечений, но случавшиеся дважды в месяц встречи со злюкой-отцом едва ли могли его развлечь.
По правде сказать, с этих свиданий выздоравливающий возвращался более хмурый, чем был до них. Хотя, казалось бы, куда уж более?..
Розина заметила мужа еще издали: он сидел в складном кресле под тентом в красную и серую полосы. Сынишка директора, устроившийся рядом на табурете, что-то ему читал, но он не слушал; взгляд его был устремлен в пустоту. Мальчуган потянул его за рукав, и Стефен ласково потрепал его белокурые волосы.
Что, впрочем, не помешало Орлаку через пару мгновений снова загрустить.
Он был так близок к смерти, что все даже задавались вопросом, не стало ли его выздоровление, в сущности говоря, воскрешением; и сначала, видя мужа таким серьезным, Розина порой была склонна полагать, что он побывал в краю призраков и что его меланхолия вызвана воспоминаниями о преисподней…
Причина этой грусти более проста и не столь изящна.
Вступив в период выздоровления, Стефен не способен был думать ни о чем другом, кроме своих рук.
После того как он избежал гибели, находиться здесь, ходить по земле среди людей своими собственными ногами, быть в состоянии, как все, целыми и невредимыми руками хватать, ощупывать, гладить, ясными глазами созерцать природу – похоже, все это для него мало что значило.
Он ничего не говорил. Вообще никогда об этом не упоминал. Розина же не осмеливалась сделать даже малейшего намека. Его правая нога оставалась чуть более короткой, чем левая, руки от плеча до кисти были все еще слабы, а сами кисти рук Орлака возвращались к жизни крайне медленно; и он, виртуоз, похоже, страдал от постоянного онеменения кончиков пальцев, из-за которого они, эти пальцы, никак не могли обрести прежние навыки.
Чувствовалось, что он терзаем тревогой, оскорблен в самой благородной своей гордости, цепляется за отчаянную надежду вернуть былой талант. Он ревностно скрывал свою неполноценность, все еще веря, что она временная, желая над ней восторжествовать, ленясь разрабатывать пальцы. Он боялся проявить свою неуклюжесть на публике. Несомненно, он был очень несчастлив.
Розина уже подошла к мужу. Стефен смотрел на нее так, как если бы это была некая прозрачная фигура, сквозь которую он наблюдал что-то другое.
Стефен Орлак был невысокий мужчина, хрупкий и энергичный. Его округлившиеся черты выдавали слабость характера. Он был все еще бледен из-за потери крови. Лицо его зигзагообразно прореза?ли два или три шрама. На затылке, среди каштановых волос, бледной отметиной был прочерчен еще один. К креслу были приставлены костыли; вскоре он сможет обходиться одной лишь тростью.
Маленький чтец умолк; Стефен, задремав, закрыл глаза.
Розина воспользовалась этим для того, чтобы осмотреть его руки; и, как всегда, она почерпнула в этом осмотре веру.
Разумеется, эти руки прошли через жестокое испытание; десятки рубцов покрывали их мерзкой красновато-фиолетовой сетью. Но в конце-то концов, все же было на месте! Трещины прекрасно зажили. Под кожей, которой еще предстояло смягчиться, отчетливо виднелись косточки, такие, какими они и должны быть. Если оценивать форму кистей рук в целом, то в ней не было ничего такого, что могло бы приводить в отчаяние. На месте Стефена Розина была бы полна бодрости и задора!
Но в плане энергии Стефен и Розина отличались как небо и земля; и после катастрофы Стефен, похоже, совершенно утратил твердость духа, и, раз уж Розина позволила нам проникать в глубины ее сердца, читателю следует знать, что именно это беспокоило и озадачивало ее больше всего.
Нет! Какое бы несчастье ни угрожало пианисту, каким бы беспомощным он себя сейчас ни чувствовал, было просто неестественно, что Стефен так вяло противился терзающим его опасениям! Его дурные предчувствия были слишком странными, мечты слишком робкими, а уловки, призванные обмануть и успокоить всех тех музыкантов, любимых преподавателей и так далее и тому подобное, которые являлись его навестить и покидали в полной уверенности, что он сможет играть с прежней виртуозностью, слишком изворотливыми. Руки – ерунда. Все дело было в мозге. Серраль не сумел устранить последствия травмы. Более того, казалось, что странность Стефена является последствием операции! В его собственном «я» появилось что-то новое, неожиданное, поразительное, некий едва ли не чудовищный элемент, сотканный из страха, растерянности и тщеславия, элемент, который никак нельзя было оправдать состоянием его рук!..
– Он спит? – прошептал позади мадам Орлак мужской голос.
Розина обернулась. Это был профессор Серраль.
– Не будем его будить, – сказал он.
Хирург и молодая женщина пошли по аллеям парка.
– Я как раз, – произнесла Розина, – хотела поговорить с вами, доктор.
– Похоже, о чем-то серьезном.
– И да и нет… Прошу вас сказать мне – только абсолютно честно, – какого рода операцию на головном мозге вы сделали моему мужу.
Она говорила отрывисто, щеки ее горели.
– Без проблем, милочка, хотя определение «на головном мозге» тут и не совсем подходит. Вот только затем и я, в свою очередь, хотел бы знать, почему вы именно сегодня задаете мне вопрос, на который я откровенно ответил бы уже на следующий день после операции.
Розина давно уже пообещала себе расспросить Серраля. Но до сих пор в присутствии хирурга у нее словно отнимался язык. Его авторитет был столь велик, его имя было окружено таким ореолом честности и порядочности, что, когда он подходил, вы оказывались не способны вымолвить и единого слова. Он был из тех выдающихся людей, чье присутствие одновременно подавляет и успокаивает. Если теперь мадам Орлак и решилась заговорить, то вовсе не потому, что она больше, чем обычно, беспокоилась за мужа, но лишь из-за того, что профессор навещал Стефена так часто, что мало-помалу становился для нее обычным человеком. Престиж ученого с каждым днем рассыпа?лся под действием привычки; в этот день от него откололся еще один крупный кусок.
Серраль закончил свое объяснение. Он говорил о трепане[24 - Имеется в виду инструмент для сверления кости при трепанации.] и пиле. Операция была простейшая, но очень деликатная. В общем и целом все можно было резюмировать одним грубым словом – «чистка». Перелом затылочной кости привел к ушибу и сдавливанию задней доли головного мозга. Осколки торчали во все стороны. Пришлось проделать обширный oculus[25 - Буквально: глаз (лат.).], тщательнейшим образом все почистить и «закрыть» дыру.
– Короче, – сказала Розина, – ничего особенного, новомодного?.. Никаких… заборов крови… переливаний?..
– Ну и ну! – воскликнул Серраль. – Что за мысли?.. Как это вообще вам взбрело в голову, милочка?
Розина еще сильнее покраснела и опустила голову. Хирург остановился и внимательно посмотрел на нее, крайне заинтригованный.
Серраль. В его ясных глазах светилась доброжелательность. Статуи, которые установят в его честь на городских площадях, не будут иметь той представительности, какой обладает он сам. На постаменте можно будет прочесть таких три слова: «Знание, Сила, Доброта».
Розина пролепетала дрожащим голосом:
– Прошу прощения. Да-да, я прекрасно знаю, что вы говорите мне правду. Вы от меня ничего не скрываете. Я вам верю…
– Полноте, да что это с вами?
Она была похожа на девочку, объясняющую, что ее так сильно расстроило. Она и хотела бы не плакать, эта девчушка, но сдержать слезы было не так-то и просто. В ответ послышались лишь заикания, всхлипывания и рыдания, перемежающиеся странными мелодичными звуками, которые могли бы показаться смешными, не будь они исполнены такой печали:
– Мой муж… не… не такой… как раньше. Разумеется, он и раньше не был… сверхэнергичным. Вовсе нет!.. Ах!.. Я… я подозревала, что его… руки… причиняют ему страдания. Но право же!.. Теперь… теперь вся его жизнь сводится… к страху, что он никогда больше не сможет играть… на рояле. Вы скажете, что это… что все это… катастрофа! Несчастье, да, даже огромное несчастье, если хотите!.. Но в конце концов, в жизни ведь есть… не только рояль!.. Да, он любит меня! О да! Но не так сильно, как… свои руки!.. Даже если бы он предал свою страну… был бы приговорен к смерти за измену, вы бы не… не увидели его таким отчаявшимся… Это уже не он!.. Не он!..
Она не переставала сморкаться. Глядя на нее с состраданием, Серраль сказал:
– Со временем, милочка, все образуется. Силы вернутся, а с ними – выдержка и стойкость. Не забывайте, что мсье Стефен Орлак перенес сильнейшее кровотечение, после которого выжили бы немногие земные создания… Я даю вам честное слово, что растворы, использованные мною для замены крови, не содержали никаких элементов, способных изменить жизненный ритм пациента.
– Значит, никакой – как бы это выразиться? – никакой… животный принцип…
– В том смысле, который в это вкладываете вы, – нет, милочка. И вообще, если позволите заметить, ваши опасения вызывают у меня улыбку. Насколько я вижу, вам не дают покоя все те истории, которые в наши дни пишут, образно говоря, за бортом науки… Мы имеем дело с вполне обычным случаем ослабления организма. Когда последствия травмы совершенно исчезнут; когда мозг, должным образом орошенный, начнет работать как следует; когда руки восстановят свою функцию…
– А что вы, собственно, думаете о его руках?
– Врач никогда не знает наверняка, в какой мере природа пожелает постараться довести свое творение до совершенства. Вот и я не могу сказать, сможет ли ваш муж когда-либо продолжить свою карьеру виртуоза. Еще раз повторю: я сделал все, что было в моих силах; и как сказал бы мой предок: я его вы?ходил, Бог его излечит!
В ответ на обескураженный жест Розины он покорно, с некоторой печалью во взгляде произнес:
– Вы – точь-в-точь как ваш муж. Вы не осознаете, что в этот час он должен был бы уже лежать под шестью футами земли или, как минимум, быть одноруким, одноногим и, быть может, идиотом. Вы сердитесь на меня за незавершенность моей работы, не желая признавать, что моя великая коллега-жизнь не закончила свою… Впрочем, не важно! Вам многое простительно, потому что вы сильно любите… Не накручивайте себя, милочка; ничего не преувеличивайте; будьте справедливы и разумны. Это свойственно выздоравливающим и, в общем-то, всем обессиленным – вести себя так, как себя ведет мсье Стефен Орлак. То, что сегодня его страшит, завтра будет ему лишь досаждать. Давайте через год встретимся – и посмотрим, был ли я прав. Пока же я полагаю, что мсье Стефену Орлаку будет полезно вернуться домой. Я возлагал на его моральный дух гораздо бо?льшие надежды – чего уж скрывать. Похоже, ему нужен дополнительный курс лечения. Привычная среда, где он будет окружен любимыми вещами, должна подействовать на него благотворно. Пусть на какое-то время снова окунется, образно выражаясь, в околоплодную жидкость – вам лишь останется затем его оттуда вытащить. Я сейчас его осмотрю и выпишу exeat[26 - Буквально: отпускной билет (лат.). Здесь: справка о пребывании в лечебном учреждении, выдаваемая при выписке.].
– Вы только представьте себе, – сказала Розина, немного успокоившись, – только представьте себе: я дошла до того, что начала расспрашивать его о нашем совместном прошлом, чтобы удостовериться, что он – это действительно он!
Она смеялась, уже готова была насмехаться над самой собой. Но Серраль взял Небо в свидетели этой несусветной глупости.
– О литература! – воскликнул он. – Чему ты учишь нашу молодежь?
* * *