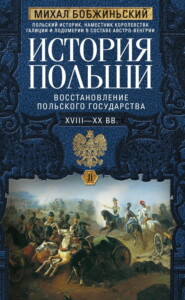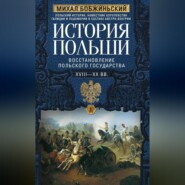По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Польши. Том I. От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X–XVIII вв.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Над ними возвышаются труды Яроховского
, хотя первые его сочинения тоже относятся к этой школе. А вот Мацеевский
, несомненно, расширил точку зрения Лелевеля, хотя и опирался на него. Однако по уровню критики, направлению своих исследований, способу их аргументации и форме изложения, несмотря на прямое воспроизведение Лелевеля, он стоит ниже его.
Такое подражание не свойственно другим, более молодым историкам и писателям – современникам Лелевеля, среди которых заслуживают упоминания самые выдающиеся – Кароль Шайноха, Януш Вишневский, Юзеф Лукашевич и Юлиан Бартошевич. Они нашли себе новое поле для исследований, занимались поиском неизвестных источников и сами создавали форму изложения своих научных результатов. В этом плане достаточно упомянуть мастерское изложение материала Шайнохой.
Им было не занимать таланта и работоспособности. А так как они, хотя и как соратники Лелевеля, создали, по сути, новую школу, то возникает вопрос – не утонут ли они в тени этого титана нашей историографии первой половины XIX века?
Ведь ни один из них не продвинулся дальше критики источников. Каждый, насколько был способен, лишь воспринимал выводы «Истории Польши Средних веков» (достаточно вспомнить произведение Шайнохи «Ядвига и Ягайло»), нередко меняя эти выводы на худшие. Ни один из них не выступил против господствовавших в то время взглядов Лелевеля и не отважился по-новому взглянуть на его главные положения, не обратился к первоисточникам и не занялся детальным разбором тех вопросов и мест в истории, от которых зависит представление о происходящем.
Вследствие вышесказанного в их трудах наблюдается меньше историософских построений. Но разве от этого стало меньше лести национальному тщеславию у Вишневского или рыцарской нежности, когда речь заходила о Ядвиге или Барбаре? Разве меньше начали применяться приемы фантастической поэзии, когда писали о Владиславе IV?
Что же можно сказать о тех историках, которые прямо и открыто выступали против мнения Лелевеля? Сенкевич воевал с ним скорее на поле публицистики в защиту монархических правил, а не по вопросам коренных, исторических исследований. Кароль Гофман, который раньше других расстался с теорией, отстаивавшей необходимость установления власти муниципалитетов, и признавал важность сильного центрального правительства, опять же, имел в виду только республику и монархию, совершенно забывая об обществе и видя причину упадка Польши в расстройстве абсолютистского болеславовского правления.
По стопам последнего пошли Дзедушицкий, Валевский и Моравский, которые, однако, придали его взглядам новый, католический подход, приписывая все, что было хорошего в Польше, католицизму или даже, как Валевский, цезаропапизму
. Объясняя упадок Польши отступлением от католических принципов, эти историки снова создали историософскую формулу, которая по своей однобокости намного превосходила формулу Лелевеля и в которую они втиснули нашу историю, открыто перекраивая источники. Произведения Дзедушицкого и Валевского полны ранее неизвестными подробностями. При этом образы Збигнева Олесницкого
, представляемого ими как защитник папской власти, и Скарги
, ругаемого за отсутствие толерантности, получились довольно карикатурными. О странностях же Валевского вообще излишне вспоминать.
Эти писатели боролись с Лелевелем, но его же оружием. Причем сражались хуже всех. В целом же своими методами работы от школы Лелевеля они ничем не отличались, и поэтому их следует отнести именно к ней.
Следует только удивляться тому большому количеству трудов, которые школа Лелевеля посвятила изучению нашего прошлого. Необходимо также отметить мастерское изображение материала Шайнохой, настоящую эрудицию у Вишневского, Бартошевича и Лукашевича, отображение на основе источников дипломатических отношений Польши Валевским.
Вместе с тем если задаться вопросом, что же является для нас настоящим плодом их таланта и труда, то мы с грустью увидим, что без ответа осталось много уже поднятых нами вопросов, а решенными – совсем мало! Предвзятость и отсутствие строгого метода исследования – повторяем это еще раз – не дали школе Лелевеля приблизиться к подлинной сути нашей истории.
Тогда же нашей историей стало заниматься все больше и больше сторонних ученых. В частности, над историей Силезии, Пруссии и Ливонии издавна трудились немцы, а над историей Литвы и Руси – русские. Причем и те и другие пользовались ревностной поддержкой своих правительств, что выражалось в издании наших исторических источников, о которых довольно много говорилось в различных сборниках. И хотя те труды нередко оказывались довольно тенденциозными, та широкая источниковая база, на которую они опирались, придавала им более прочное значение.
Среди этих сторонних ученых, наряду со многими посредственностями, было и немало людей, наделенных талантом, пользовавшихся новыми методами исследования, отличавшихся усердием и возвышавшихся над тесным кругом национальных предрассудков и интересов. Так, в нашей истории очень хорошо разбирались Сергей Михайлович Соловьев, Николай Иванович Костомаров, австрийский историк Адольф Беер, описавшие историю падения Польши, а также немецкие историки Рихард Роепель, Георг Фогт, Кольмар Грюнгаген, Яков Каро, Генрих Цейсберг, занимавшиеся польским Средневековьем. При этом, когда чужеземные историки отзывались о наших ученых с некоторым чувством превосходства, мы вместо того, чтобы эффективно состязаться с ними в том, чтобы сказать последнее научное слово о нашем прошлом, отвечали им порой хвастливым бахвальством и не извлекали из иностранных работ ни малейшей пользы.
Правда, в оправдание такого печального состояния дел следует сказать о наличии в те времена немалого числа политических происшествий. Тем не менее для нас тогда настал последний срок, чтобы прийти в себя и начать уже на лучшей Источниковой базе новое исследование нашего прошлого, чтобы не дать чужакам себя осилить и не смотреть на свое прошлое глазами посторонних, а именно немцев.
Историческая школа современности
После новых тяжелых переживаний наше общество окончательно утратило веру в те историософские взгляды, которыми оно довольствовалось до той поры. Читая описания самых великих деяний, которыми изобиловала наша история, переворачивая страницы карт, на которых отображены великие победы польского оружия, и слушая историков, рассказывавших об исключительных политических достоинствах нашего отечества, поколение, у которого после поражения последнего восстания проснулось стремление к усердному труду, спросило себя, почему все это не привело поляков туда, где находятся другие дружественные им народы? У него возникло убеждение, что история Польши до сих пор является одной сплошной неразгаданной загадкой. Исследовать историю, найти в ней не искусственный плод воспаленного воображения и возбужденных чувств, а сокровищницу опыта, энергии и труда – вот что стало теперь настойчивым и всеобщим стремлением.
Первым признаком появления нового направления в исследованиях истории стало критическое осмысление исторической школы Лелевеля и достигнутых ею результатов. Эта критика не носила огульно отрицательного характера, поскольку пренебрегать и презирать тот великий труд, который с огромным талантом проделала эта школа, никому и в голову не приходило. Однако, признавая значимость работы предшественников, стараясь усвоить и применить их существенные результаты, следовало предъявить к историческим исследованиям более жесткие требования, поставить их на более широкую основу и кардинально изменить точку зрения.
Первостепенное значение приобрело издание исторических источников. Поэтому открылись закрытые до того времени архивы, нашлись щедрые средства и стал применяться по немецкому образцу метод обработки и выпуска в свет первоисточников. Издательская работа, объединяя вокруг себя лучшие молодые силы, получила горячую поддержку серьезных учреждений, таких как Польская академия знаний в Кракове, Общество друзей наук в Познани, Институт Оссолинских и Национальный факультет во Львове, Издательство исторических источников в Варшаве, Курницкая библиотека графов Дзялынских и Библиотека Красинских, что позволило продвинуться далеко вперед в этом вопросе. В дополнение к выпускам Беловского издательства «Памятники исторической Польши» были изданы ежегодники, средневековые хроники и завершающие их произведения Длугоша. Кроме того, из архивов извлекли и опубликовали большое число средневековых законов, дипломатических и судебных документов, писем XV столетия, а также политических трактатов, в результате чего неизвестных источников Средних веков осталось совсем мало. И в целом потребовался поистине титанический труд, чтобы восстановить, исследовать и объяснить текст каждого из этих источников.
Гораздо меньше было сделано в области издания источников нашей истории начиная с XVI века. Из каждого ее отрезка имелось только начало. В частности, из труда профессора Освальда Бальцера
стали известны документы дипломатической переписки времен Сигизмунда Старого и Августа. Были опубликованы также законы и постановления «Свода правовых норм» 1507–1526 годов, записи польского сейма времен Сигизмунда Августа и последующих налоговых актов времен Стефана Батория, люстрации
, а также описи некоторых товаров, несколько дневников и так далее. Правда, все это еще предстояло обработать. К тому же объем источников, особенно дипломатической переписки, оказался настолько большим, что об их публикации в полной мере не могло быть и речи и историку приходилось черпать знания непосредственно из архивов.
Получив в свое распоряжение заметно увеличившийся в объеме исходный материал, историки могли уже заниматься подробными исследованиями и констатацией фактов там, где их предшественники, строя свои шаткие гипотезы, были вынуждены остановиться. Кроме того, взяв на вооружение строгие университетские методы исследования, разработанные на Западе в середине того века, они, опираясь на их более прочную основу, не только значительно облегчили свою работу, но и провели ее под углом истинной критики.
Однако ни глубокой критики, ни выросшего объема материала, ни вообще оживившегося движения за изучение истории было недостаточно для того, чтобы все это могло претендовать на название новой исторической школы. Для этого необходимо было кардинально изменить направление и сам дух работы историка, выработать новые общие основы исторических оценок, одинаково взглянуть на понятие, задачу и позицию историчности.
Нашлись и люди, которые смогли освободиться из плена прежних понятий, вознестись на новую позицию и увлечь своим примером молодое поколение историков.
Таковыми были Юзеф Шуйский
и преподобный Валериан Калинка. Так, Шуйский в первых двух томах «Истории Польши» (Львов, 1862, 1863), созданных на основе уже существовавших исследований (сегодня полностью устаревших), и последовавших других двух томах, вышедших в 1864 и 1866 годах, поднялся до уровня самостоятельного изучения и изложения собственных взглядов. Трактат же Шуйского «Фальшивая история порождает фальшивую политику» (Польский обзор. Краков, 1877) выявил взаимозависимость политики и истории. А труд Калинки «Последние годы правления Станислава Августа», вышедший в 1868 году вместе с великолепным предисловием о задаче историографии и содержавший широкий взгляд на правление Станислава Августа, свидетельствовал о решительным повороте в исторических исследованиях в сторону голой исторической правды.
За этим последовали и другие, а появление моего труда в 1877 году вообще побудило историков к широкой дискуссии по вопросу, касающемуся основ и условий работы с историографией. В ходе этой дискуссии многое удалось прояснить и исправить. Поэтому мы тоже можем говорить о новой исторической школе, если, конечно, наши историки согласятся на следующее:
1) что им не позволяется использовать историю для оправдания какой-либо заранее составленной системы или доктрины, а также любого политического направления. История должна сама по себе и верно отражать картину жизни народа во всем его развитии и во всех исторических проявлениях;
2) что надо обязательно порвать с довольно распространенными до сих пор лозунгами такого рода, как «разоблачение обнаженной истины вызовет ненависть к нам у иностранцев, оправдает нанесенный нам вред, отвратит нашу молодежь от нашего прошлого и традиций, а нас самих лишит радости от дальнейшей работы!». Такие никуда не годные и полностью ошибочные взгляды не должны перечеркивать историческую правду. Ведь только голая, ничем не заслоненная истина позволяет благотворно воздействовать на общество, стать для него и науки здоровой пищей, наполнить историков рвением к работе и мужской энергией;
3) что для отбора, сопоставления и оценки фактов недостаточно ни прихоти историка, ни его художественного чутья, ни вольных политических сообщений, почерпнутых из случайного чтения или практического опыта. Основой исторических суждений может и должно быть только основательное знание социальных и политических процессов в самом широком смысле этого слова.
Работа, строящаяся на этой основе, отдавая дань правде, должна была занять критическую позицию в отношении симптомов упадка Польши и не отступать перед суждением, что исходные причины этого падения следует искать в нас самих, если вследствие отсутствия у нас сильного правительства мы не сопротивлялись внешнему насилию. Однако наше общество, воспитанное на прославлении собственного прошлого романтической поэзией, которая и служила ему историей, не могло легко и сразу прозреть и принять такое умозаключение.
Одна публицистическая фракция воспользовалась этим и попыталась на таком поклонении основать свою политику и снискать себе тем самым легкую популярность. В этом ключе появлялись многочисленные статьи, диссертации и даже произведения, которые, однако, не оказали существенного влияния на работу историков.
Это направление поддержали далеко не все ученые. За ним пошел, в частности, Смоленьский
со своим трактатом «Исторические школы в Польше», опубликованным в журнале «Атенеум» в 1886 году и варшавском издании 1898 года с предисловием Рембовского. Он оперировал материалами противников и не отличился собственными исследованиями внутренних отношений в польской истории. Затем на съезде историков в 1890 году довольно громким стало выступление Корзона
, который, критикуя новую школу как «краковскую», выступил против постулата о том, что история является «учителем жизни», и обрушился на субъективизм в историографии. Ему оппонировал Бальцер. Позже же Корзон, с головой погрузившийся в исторические исследования, стал одним из виднейших представителей новой школы и приверженцем сложившихся в ней взглядов.
Однако под влиянием начавшейся мировой войны и восстановления Польши над всей исторической работой нависла большая опасность, когда некоторые историки вознамерились потребовать пересмотра истории и причин упадка Польши
. К предмету актуальности данного вопроса мы еще вернемся в заключительных замечаниях данной книги.
Плодом труда историков за прошедшую половину столетия стало большое количество диссертаций и монографий, многие из которых не выходят за рамки изложения деталей. Однако в некоторых из них подняты достаточно важные вопросы и проливается свет на связанные с ними исторические свершения. И все же готовых законченных разработок больших исторических отрезков еще недостаточно.
Тем не менее большая заслуга проделанной работы заключается в том, что она, не ограничиваясь одной лишь политической историей, охватила поистине умелым изучением все другие стороны жизни и развития народа. Так, неожиданные результаты были достигнуты после обращения к изучению государственного и общественного устройства. Кроме того, стали исследоваться законы, государственные финансы и экономические отношения, не говоря уже об истории церкви, открылись работы по военной истории, достигнуты, возможно, величайшие научные достижения в истории литературы, начались плодотворные исследования в области археологии и истории искусства. Причем число ученых, участвовавших в этой работе, оказалось настолько велико, а количество трудов и диссертаций – таким большим, что даже самое короткое их перечисление превысило бы размеры этой книги. Поэтому в данном труде мы приводим только самые выдающиеся и последние работы из общей истории, отсылая читателя к «Библиографии истории Польши» доктора Людвика Финкеля
в трех частях (Краков, 1891–1906. Дополнительный выпуск в 1914 г.). Более позднюю библиографию можно найти в ежеквартальном историческом журнале «Квартальник хисторичны»
.
Когда-то все отдельные ветви нашего исторического знания сливались в единое целое истории народа, но сегодня до этого еще далеко. Поэтому нам следует только приветствовать, что Академия знаний, издавая энциклопедии, взяла на себя задачу представления результатов научных исследований в области нашей истории, привлекая к этому исследователей, ведущих изыскания во всех направлениях. Однако вследствие перерыва, вызванного войной, вышла лишь часть сочинений, на основе которых была создана «Политическая история Польши», изданная в двух томах в 1920 и 1923 годах. Этот труд, как плод работы девяти историков, а именно – Станислава Закшевского, Захоровского, Галецкого, Домбровского, Смолки, Папеега, Собеского, Краевского и Конопчинского, выходит за рамки доклада о достигнутых результатах, обогащая его новыми исследованиями. Поэтому нам больше не нужно было прибегать к истории, которую написали Роупелл Каро и Зивье.
Слабой стороной вышеназванного труда является его общий генезис. Правда, авторы старались избежать слишком явных противоречий. Имеющийся в нем справочник, конечно, пытается дать экскурс в нашу историю, но она в этом произведении постоянно меняется, и читатель это ощущает, с трудом находя цельность в развитии Польши.
Не завершена, к сожалению, также программа энциклопедии, включающая в себя отдельные разработки партикулярной истории (истории отдельных государств). Вышло только произведение Александра Валериана Яблоновского «История Южной Руси до краха польской Речи Посполитой», Краков, 1912.
Впрочем, эта история в последнее время нашла развитие у русской стороны в обширном труде Михаила Грушевского «История Украины-Руси»
(Львов, 1898 и последующие).