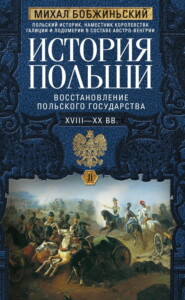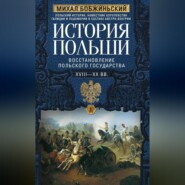По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Польши. Том I. От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X–XVIII вв.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не осознавалось и значение великих переворотов, служивших своеобразными социальными и политическими вратами, сквозь которые проходил народ, и все его деяния освещались только светом XVIII века. История же Польши была механически поделена на три периода: пястовский, ягеллонский и выборной монархии. Всю же вину за несчастья и падения возложили на плечи отдельных козлов отпущения: представителей рода Кмитов, на Зебжидовского, Радзиевского, иезуитов, Тарговицкую конфедерацию
, а всякое более глубокое понятие о вещах, выявление общих национальных пороков считалось бесчестием собственного гнезда и кощунством.
Ниже приводятся краткие сведения, восполняющие пробелы в библиографическом перечне и представляющие собой наиболее важные труды, которые нам оставила школа Нарушевича и его последователей:
• Нарушевич Адам (1733–1796):
«История польского народа» (адресованная Владиславу Ягайло): В 6 т. (со 2-го по 7-й), Варшава, 1780–1786 и 1803; издание второе, 1803–1804; издание третье, Липск, 1836–1837; издание четвертое, Краков, 1859–1860. Первый том не завершен и охватывает времена язычества, издан в Варшаве в 1824 году;
«История Яна Кароля Ходкевича», том 2, Варшава, 1781, 1805, второе издание, Липск, 1837, третье издание, Краков, 1858.
• Потоцкий Ян (1761–1816):
«Летописи, мемуары и искания для служения истории всех славянских народов», Варшава, 1793;
«Эссе по всеобщей истории и исследованиям Сарматии», том 4, Варшава, 1789–1792;
«Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах», том 4, Брауншвейг, 1796;
«Первобытная история народов России», Петербург, 1802.
• Суровецкий Лаврентий (1769–1827):
«Исследование начала народов славянских» (Ежегодник Варшавского общества любителей наук, том 17), Варшава, 1824.
• Доленга-Ходаковский Зориан (настоящее имя Адам Черноцкий (1784–1825):
«О славянщине до христианства», Краков, 1835.
• Нарбут Матфей Теодор (Феодор Ефимович) (1784–1864):
«История литовского народа» в 9 томах, Вильно, 1835–1841.
• Свенцицкий Фома (1774–1837):
«Описание древней Польши» в 2 томах, Варшава, 1816 и 1828 годы, второе издание Краков, 1861.
• Чацкий Тадеуш (1755–1813):
«Собрание трудов», 3-й том, Познань, 1843–1845 (1-й и 2-й том посвящены литовским и польским законам, три трактата);
«О литовских и польских законах». В 2 т. Варшава, 1800–1801, второе издание Познань, 1843, третье издание 1861;
«Трактат о евреях», Вильно, 1807, второе издание Краков, 1860.
• Бентковский Феликс (1781–1852):
«История польской литературы» в 2 томах, Варшава, 1814.
• Оссолинский Иосиф-Максимилиан (1748–1826):
«Исторический критический вестник по истории польской литературы», в 3 томах, Краков, 1819–1822, 4-й том, Львов, 1852.
Историческая школа Лелевеля
Из прокрустова ложа пагубной заскорузлости и неглубоких рассуждений, в которое попали преемники Нарушевича, нашу историческую науку вырвал только Иоахим Лелевель (1786–1861).
Наш народ, морально оздоровившись под влиянием разделов и обретя в себе любовь к общественному благу, должен был сам себе задать вопрос, почему и теперь вся его деятельность заканчивается новыми поражениями? А чтобы на него ответить, ему необходимо было внимательно посмотреть на самого себя и поискать в своих прошлых поступках наряду со свидетельствами упадка морали еще и другие пороки и грехи, от которых он еще не излечился и которые, тяготея над ним, мешают всей его текущей деятельности.
Вот в этих новых исследованиях руководителем как раз и выступил Лелевель. Отказавшись и даже совсем пренебрегая образностью в историографии, опираясь на первоисточники, он извлек из них много новых фактов, проработал их критически и оценил имевшиеся в них взаимосвязи. Основываясь на этом, Лелевель своим глубоким умом проник в тонкости нашего социального и политического развития, затронул огромное количество важнейших вопросов, а пытаясь состыковать их и найти безотлагательное решение, построил новое здание нашей истории.
Все его подробные исследования и труды, составившие двадцать томов издания Жупанского (серия «Польша, история и дела ее», Познань, 1854–1868), находят свое окончательное выражение в двух дополняющих друг друга произведениях:
«История Польши, обращение к сыновьям», Варшава, 1829 год, приумноженное в дальнейших выпусках 1830, 1837, 1843, 1845, 1849 (два), 1852, 1853, 1856, 1859 (два), 1863 годов, а также во 2-м томе коллективного издания 1859 года;
«Заметки об истории Польши и ее народе», вышедшие сначала на французском языке в Париже и Лилле в 1844 году, а затем на польском языке в 3-м томе коллективного издания в Познани в 1855 году.
Обобщенная в них историческая точка зрения Лелевеля заключается в постановке перед нашим народом определенного постоянного, неизменного условия, которым является наличие социальных и политических свобод, и формулы, гласящей, что если нация к этому условию приближается, то в таком случае она развивается, а по мере отдаления от него – приходит в упадок.
В польской истории оно воплотилось в жизнь во всей своей красе только один раз, а именно в славянской общине. Причем хранителями этого условия стали первые Болеславы. Во втором же периоде, продолжавшемся в 1139–1374 годах, уничтожение свобод народа и княжеской власти вельможами спровоцировало упадок. И только в третьем периоде гражданский дух наиболее знатной части народа вновь усилился, власть вельмож была свергнута, а образ дворянского сословия заиграл во всем своем величии.
Однако муниципалитеты не смогли выполнить поставленную перед ними задачу, сельский люд до свобод не был допущен, а форма республиканского правления в жизнь в полной мере оказалась не воплощенной. Более того, начиная с 1607 года она стала загнивать изнутри и терять свои позиции, что и привело, в конечном счете, к очередному упадку. Отсюда напрашивался вывод, что только возвращение к общине, то есть к свободе сельского люда и к республиканскому правлению, может вывести народ из упадка. Однако совсем не надо знать польскую историю, чтобы, прочитав такой вывод, сказать, что подобное утверждение априори слишком сложно, а исторические факты специально подогнаны так, чтобы можно было толковать их в свою пользу.
В изложении истории Лелевелем несложно также увидеть и отражение той умозрительной философии, которая с началом того века по образцу Гегеля, Роттека
и Гизо
использовала исторические факты и злоупотребляла ими для инсценировки своих расчетных систем и которая начиналась с историософии
, а не заканчивалась на ней. Такой философский взгляд, составленный заранее и более или менее точно отражавший детали, служил единственной основой для выбора, спецификации и оценивания исторических фактов. И хотя он отчасти и приближался к истине, а основывавшиеся на нем исследования имели свои определенные достоинства, все это не могло уравновесить ошибок историка, который, в конечном счете, становился слугой некоего произвольно сформированного взгляда, где история должна была служить лишь доказательством делаемых суждений и не обладала необходимой самобытностью.
Такое ошибочное направление натолкнулось на Западе на определенное ограничение. Ведь там, в основном под опекой и за счет пожертвований правителей, издавалось немало источников, содержавших множество деталей и фактов. А ведь чем больше становится известно фактов, тем, конечно, труднее их подогнать к какому-то мнению. Одно это предполагает, что точка зрения исследователя должна быть глубже и менее односторонней. Кроме того, на Западе тоже были занимавшиеся историческими исследованиями люди, имевшие возможность получить профессиональное образование и которым многочисленные научные учреждения, а также научные сборники позволяли получать широкие сведения, выработать у себя трезвое и критическое мышление.
У нас же всего этого не было. Издание источников находилось в зачаточном состоянии, и лишь время от времени стараниями частных лиц выходил в свет какой-либо мелкий сборник. Знание фактов отсутствовало, и все это к тому же наблюдалось на фоне развивающейся историософии. Вместе с тем исторические исследования не приносили достаточных средств для существования, и люди практического склада их гнушались. Поэтому работой над историей занимались сплошь и рядом одни дилетанты, у которых было больше энтузиазма и даже таланта, чем навыков настоящих ученых.
Польские историки считали наличие у себя политических навыков вещью чуждой и при таких взглядах допускали грубые ошибки. А если ко всему этому добавить, что наши политические отношения тоже оказали влияние на историографию, что развившаяся до высокой степени политическая горячка отразилась на всех исторических исследованиях, то можно легко понять, почему в нашей историографии спекулятивное направление так глубоко укоренилось и господствует на этой ниве дольше, чем где-либо еще.
Читая труды, раскрывающие взгляды Лелевеля, сегодня мы не перестаем удивляться, как можно было допустить подобные искажения и ошибки? Постоянно слыша о поднимающей голову свободе, мы удивляемся, как можно было упустить из виду второе условие здорового развития любого народа, а именно силу и гибкость его государственной власти? Непонятно также, как можно было сделать развитие и упадок нации зависимыми от муниципалитета, то есть от одной формы правления, вещи, которую каждый народ по мере своего развития обязательно преобразует и меняет?
Тем не менее Лелевель втиснул в такую республиканскую форму все наше прошлое, поскольку от охватившей его под живым еще впечатлением от Французской революции политической лихорадки он не стал заниматься поиском квалифицированных сведений о необходимых основах любого общественного и государственного строя. В результате при сугубо доктринерском подходе к делу он идеализировал пагубные законы второй половины XVI века, не обращая внимания на их последствия, а также наступившую вследствие них анархию и считая за преступление любые последующие попытки, направленные на нарушение этой «золотой свободы».
Сегодня нам остается лишь удивляться, как смог Лелевель найти муниципалитеты во временах правления первых Болеславов, на что в наших источниках нет ни малейшего намека. Как он мог утверждать, что положение сельских жителей у нас в XIII веке ухудшилось, когда оно вследствие предоставления общинам самоуправления заметно улучшилось? Как он мог верить, что польская шляхта (дворянство) правила на сеймах уже в XIV и XV веках, когда об этом не говорится ни в одном из источников?
Все это так, однако следует учитывать, что Лелевель не мог пользоваться большинством источников, доступных нам сегодня. Неизвестен был ему и критический анализ этих источников, который не позволил бы Лелевелю нагромоздить факты в угоду излюбленной теории. Осознав это, мы перестанем удивляться и поймем, что им двигали благородные помыслы, характеризуемые редкой силой мысли, что он позвал за собой целый ряд людей, которые в тех же условиях всецело отдали себя исследованию истории.
Как бы то ни было, принципиальная ошибка всего лелевельского взгляда на историю ярко проявилась в логических результатах. Построенная им на основе муниципальной теории история Польши не совмещается с историей других союзных с ней государств и народов, которые, воспитавшись на абсолютизме, строят свое величие, опираясь на силу собственных правительств. Таким образом, чтобы все умопостроение Лелевеля не обрушилось, это противоречие следовало обязательно устранить. И это, к его собственному удовлетворению, было сделано, но каким образом!
Польский народ и его прошлое были выведены из поля общих прав, которыми в своем развитии руководствуются другие народы, а самому ему отведена исключительная роль проводника гуманности в человеческое общество, и для осуществления этой миссии разрешалось существовать без уважения власти и закона, без армии и налогов. От других же народов требовалось, чтобы они каялись перед избранной нацией, оставляя в стороне собственные выгоды и интересы. Это был уже полный бред. Однако этот бред, привнесенный на крыльях поэзии, в некоторых, правда, очень болезненных моментах, через которые мы проходили в XIX веке, стал практически повсеместным и был доведен до восприятия польского себя как «Христа среди народов» (польский мессианизм).