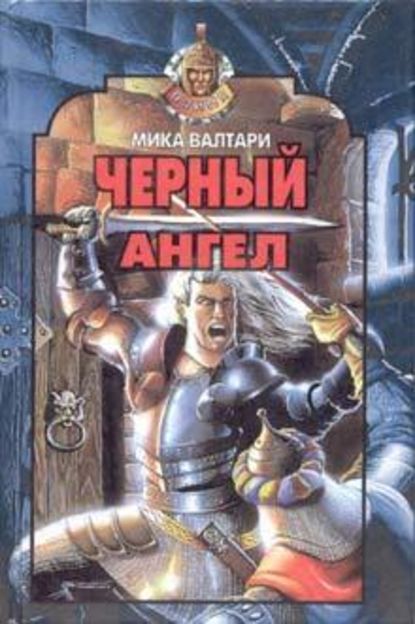По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черный ангел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этот участок защищают трое братьев Гуаччарди, молодые венецианские ловцы удачи, которые сами платят жалованье своим людям и согласились пойти на службу к императору. Они вышагивали по стене туда-обратно, останавливаясь то рядом с одним, то рядом с другим солдатом, подбадривали неопытных, хлопали их по плечу и говорили, что опасность не столь велика, как можно подумать. Братьям было интересно, какие разрушения произвела громадная пушка, и я ненадолго задержался с ними, чтобы своими глазами увидеть последствия следующего выстрела турок. Они пригласили меня выпить вина и проводили в башню, где обосновались. Заранее они велели принести туда из Влахернского дворца бесценные ковры, дорогие драпировки и мягкие подушки – и теперь удобно устроились на каменных скамьях.
В ожидании залпа братья лениво рассказывали о своих приключениях с гречанками Константинополя и расспрашивали меня о нравах турецких женщин. Ни одному из них на было еще и тридцати. Было видно, что это просто молодые искатели приключений, Которые стали наемниками в поисках острых ощущений, славы и денег. Они казались готовыми в любой момент предстать перед Всевышним – с беспечными лицами, затуманенными вином головами и сердцами, в которых царило множество прекрасных дам. Ведь получили же они, как и все остальные защитники города, полное отпущение всех прошлых и будущих грехов. Я не собирался укорять этих людей. Наоборот, почти завидовал их буйной молодости, которую еще не отравила своей горечью никакая философия.
Тем временем турки выбили из-под пушек клинья и нацелили орудия ниже, в основание внешней стены. Со стены закричали, что пушкари уже размахивают фитилями, и братья Гуаччарди быстро бросили по очереди кости, чтобы выяснить, кому выпадет честь стоять на стене и подавать защитникам пример мужества и доблести. Младший выкинул одни шестерки и, вдохновленный своей удачей, выбежал на стену с глазами, блестящими от азарта и вина. Оказавшись напротив пушек, юноша быстро встал между двумя зубцами, замахал закованными в стальные доспехи руками, чтобы привлечь к себе внимание турок, и начал выкрикивать по-турецки такие ругательства, что я даже устыдился за него. Но когда пушкари поднесли к орудиям фитили, молодой венецианец предусмотрительно укрылся за зубцом стены, крепко вцепившись в него руками.
Все три пушки выстрелили почти одновременно, залп оглушил нас, и стена задрожала под нашими ногами. Когда ветер развеял дым и пыль, мы увидели юного Гуаччарди: он был цел и невредим. Широко расставив ноги, молодой человек стоял на прежнем месте. Но ядра ударили над самым краем рва, разрушили крепостной вал и выбили большие куски из внешней стены. Было ясно, что обстрел причинит нам со временем очень много вреда и медленно, но верно сокрушит стену.
От пушек даже до нас доносились жуткие вопли и жалобные причитания. Мы увидели, что крепления левого орудия лопнули, и оно сорвалось со своего ложа, разметав далеко вокруг глыбы и колоды. Раздавило по меньшей мере двух пушкарей. Но остальные, не заботясь о своих товарищах, бросились к орудиям, чтобы завернуть их в теплые одеяла и напоить оливковым маслом. Большие пушки были ценнее, чем человеческие жизни.
Когда я шагал по стене дальше, турки непрерывно палили из пушек и пищалей, колотили в цимбалы, дули в рожки, били в барабаны и небольшими группами бросались в атаку, добегая до самого рва и пытаясь подстрелить кого-нибудь из защитников города. Закованные в броню солдаты Джустиниани даже не уворачивались от стрел и вообще не обращали на них никакого внимания – те с треском ломались о металлические доспехи.
Как раз в тот миг, когда я добрался до участка Джустиниани, загремели большие пушки, стоявшие напротив ворот святого Романа. Кусок площадки на внешней стене обвалился; со свистом разлетелись бесчисленные каменные осколки. Известковая пыль набилась мне в рот и в нос, и я едва не задохнулся от кашля; от ядовитого порохового дыма мои лицо и руки стали черными. Со всех сторон неслись стоны и проклятия; многие солдаты взывали по-гречески к Божьей Матери. Прямо рядом со мной упал какой-то несчастный поденщик, который носил на стену камни. Из страшной раны у него в боку хлестала кровь.
– Иисусе Христе, Сыне Божий, смилуйся надо мной! – простонал он и испустил дух. Этот человек отмучился…
Гремя доспехами, ко мне подбежал Джустиниани, чтобы осмотреть произведенные выстрелами разрушения. Он поднял забрало, и я увидел, что в его круглых бычьих глазах зелеными огнями пылает жажда битвы. Он уставился на меня, словно не узнавая, и вскричал:
– Война началась! В твоей жизни был когда-нибудь более прекрасный день?
Джустиниани глубоко втянул в себя воздух, чтобы почувствовать смрадный запах пороха и теплой крови. На мощном теле генуэзца бряцали доспехи, Он совершенно изменился и был теперь ничуть не похож на того трезвого и рассудительного полководца, которого я знал. Он словно лишь сейчас оказался в своей подлинной стихии и наслаждался нескончаемым гулом и оглушительными воплями, которые раздавались вокруг.
Стена снова задрожала у нас под ногами, страшный грохот сотряс небо и землю, дневной свет померк. Это второй раз выстрелила громадная пушка у Калигарийских ворот. С этим грохотом не сравнится ни один звук на свете. Солнце, словно раскаленное ядро, слабо мерцало за черным облаком пыли и дыма. Я прикинул время – и понял: на то, чтобы охладить, прочистить, навести и зарядить чудовищное орудие, требуется около двух часов.
– Ты, наверное, уже слышал, что пришел турецкий флот?! – кричал Джустиниани. – Насчитали триста парусов, но в основном это торговые суда, а военные галеры легкие и хрупкие – не сравнить с кораблями латинян. Венецианцы, трясясь от страха, ждали турок у заградительной цепи, но султанский флот проследовал мимо и встал на якорь у входа в Босфор, по другую сторону Перы.
Генуэзец говорил легко, непринужденно, словно все его заботы исчезли без следа, хотя тяжелые орудия турок чуть не двумя выстрелами стерли с лица земли крепостной вал и повредили внешнюю стену так, что она треснула в нескольких местах снизу доверху. Джустиниани рыкнул на испуганных греческих поденщиков, приказав им убрать мертвое тело их товарища. Поденщики сбились в кучку на улочке между внешней и большой стенами и кричали, чтобы их впустили в город через дверцу для вылазок. Они были простыми трудягами и вовсе не горели желанием сражаться с турками ради латинян.
В конце концов двое из них забрались на внешнюю стену. Опустившись на колени возле останков своего товарища, они громко зарыдали, когда увидели, во что того превратили каменные осколки. Заскорузлыми грязными руками греки стерли с лица и бороды погибшего известковую пыль – и все дотрагивались до застывшего тела, точно не могли поверить, что беднягу так внезапно настигла смерть. Потом потребовали у Джустиниани серебряную монету за то, что отнесут останки в город.
Генуэзец выругался и воскликнул:
– Жан Анж, вот ради таких жадных негодяев я защищаю христианство!
Греческая кровь громко кричала во мне, когда я смотрел на этих беззащитных бедолаг, у которых не было даже шлемов и кожаных доспехов, чтобы хоть как-то прикрыться от турецких стрел, а были лишь плащи, запачканные во время тяжкой работы.
– Это их город, – ответил я. – Ты сам вызвался защищать этот участок стены. Император платит тебе жалованье. Поэтому и ты должен платить греческим поденщикам, если не хочешь, чтобы твои люди сами ремонтировали стену. Таков договор! Ты – жадный негодяй, если заставляешь этих беззащитных людей работать без денег. На что они купят еды себе и своим семьям? Василевс о них не заботится.
И добавил:
– Маленькая серебряная монета значит для них столько же, сколько для тебя – княжеская корона. Ты ничем не лучше их. В погоне за славой и деньгами ты тоже продался императору.
Джустиниани, упоенный начинающейся битвой, не рассердился на меня.
– Можно подумать, что ты грек, так ловко тебе удается перевернуть самые естественные вещи с ног на голову, – буркнул он, однако бросил поденщикам серебряную монету. Те быстро подхватили тело погибшего товарища и понесли его вниз. На истертые ступени лестницы капала кровь…
13 апреля 1453 года
Тревожная ночь. В городе мало кто спал. Среди ночи земля снова содрогнулась от залпа громадной пушки. Мощная вспышка осветила небо. Всю ночь люди работали, чтобы заделать щели в стене и закрыть то место, куда били ядра, мешками с шерстью и сеном.
Турецкие корабли стоят в порту Пелар. Из их трюмов в огромных количествах выгружают на берег бревна и каменные ядра. Большие венецианские галеры по-прежнему находятся возле заграждения; они всю ночь ждут удара турок.
От восхода до заката каждая турецкая пушка может сделать не более шести выстрелов. Похоже, стена у Калигарийских ворот продержится дольше всего, хотя именно ее обстреливает та громадная пушка. Поселившиеся во дворце венецианцы теперь с большим почтением смотрят на икону влахернской Пресвятой Богородицы. Они начали верить грекам, которые утверждают, что чудотворная Панагия хранит стены дворца.
Пока не погиб ни один латинянин, но есть двое тяжелораненых. И все же доспехи хорошо защищают наемников. Зато на участке между Золотыми Воротами и воротами Ресия уже убито множество новобранцев – ремесленников и монахов; оставшиеся в живых наконец поняли, что лучше носить неудобные шлемы и не жаловаться на жесткие ремни доспехов.
Растет боевой опыт людей. Чем больше их гибнет, тем сильнее разгорается ненависть к туркам. Из города на стены приходит много женщин и стариков. Они смачивают края одежд в крови павших, считая их мучениками, принявшими смерть за веру.
Человек легко приспосабливается. Несомненно, он может привыкнуть ко всему. Даже к грохоту больших орудий. Даже к тому, что содрогается земля, рушатся стены, в воздухе свистят осколки, – хоть и сам я еще вчера думал, будто в этом аду существовать нельзя. Но у меня не холодеет в животе, и дышу я глубоко и ровно.
14 апреля 1453 года
Очередной выстрел разорвал одну из турецких пушек – так, что из трещины в дуле повалил дым. Обстрел теперь стал менее интенсивным. Возле своих огневых позиций турки понастроили кузниц и укрепляют орудия железными обручами. Орбано приказал соорудить на склоне холма за турецким лагерем литейную мастерскую. Ночами оттуда поднимается к небу багровое зарево. Турки круглые сутки плавят медь и олово. Торговец-еврей, проходящий через Перу, рассказывал, что видел сотни рабов, трудившихся у огромных ям, в которых установлены формы для отливки пушек. Погода прекрасная, небо чистое. У греков есть все основания молиться о том, чтобы пошел дождь: если на раскаленные формы хлынет вода, они треснут. Так говорит немец Грант.
Он – мечтатель и странный человек. Его не интересуют ни женщины, ни вино. Императорские мастера установили на внешней стене множество дедовских баллист и катапульт, но их мощность невелика – и польза от них будет лишь тогда, когда турки пойдут на штурм. Грант создал чертежи, на которых показал, как можно улучшить эти махины и сделать их более легкими, поскольку их конструкция не менялась со времен Александра Македонского. Каждую свободную минуту Грант проводит в императорской библиотеке, где штудирует древние рукописи.
Седоволосый хранитель библиотеки василевса трясется над книгами, никому не позволяет уносить их с собой и не разрешает зажигать в том покое, где читают манускрипты, ни свечей, ни ламп. Кодексы можно изучать только при дневном свете. Старик прячет от латинян списки книг, которые есть в библиотеке; он лишь покачал трясущейся головой, когда Грант спросил его о сочинениях Архимеда. Их здесь нет, сердито ответил хранитель. Если бы Грант хоть раз изъявил желание заглянуть в труды отцов церкви или греческих философов, его, возможно, ожидал бы более радушный прием. Но немец интересуется лишь математикой и инженерным искусством. Поэтому хранитель императорской библиотеки считает Гранта варваром и относится к нему с глубочайшим презрением.
Когда мы с Грантом разговаривали об этом, немец сказал:
– Архимед и Пифагор умели строить машины, которые могли бы изменить мир. Древние мудрецы владели великим искусством: они знали, как заставить воду и пар работать вместо человека. Но никому ничего такого не было нужно. И ученые не стали совершенствовать это искусство, а обратились мыслями к тайным наукам и идеям Платона, считая сферу сверхъестественного более значительной и важной, чем реальная жизнь. Но в забытых сочинениях Архимеда и Пифагора можно найти подсказки, которые пригодятся и современным мастерам. Я ответил:
– Если древние мыслители были мудрыми людьми – куда мудрее нас – то почему же ты не веришь им и не следуешь их примеру? Разве человеку принесет пользу, если он бросит природу к своим ногам, но забудет при этом о душе?
Грант посмотрел на меня своими беспокойными, пытливыми глазами. Его мягкая борода – цвета воронова крыла; ночные бдения и напряженные размышления избороздили его лицо морщинами. Этот представительный человек занимал и тревожил меня. От грохота огромной пушки здание библиотеки задрожало; из щелей в потолке посыпалась пыль, заплясала в лучах солнца и унеслась легким облачком в узкое окно.
– Ты не боишься смерти, Иоанн Ангел? – спросил Грант.
– Тело мое – боится, – ответил я. – Тело мое страшится физического уничтожения, и при звуках орудийных раскатов у меня дрожат колени. Но дух мой не трепещет.
– Если бы ты повидал в жизни побольше, то боялся бы куда сильнее, – заявил немец. – Если бы ты еще чаще бывал в сражениях и чуял запах смерти, то и твою душу охватил бы ужас. Бесстрашен лишь неопытный солдат. Настоящий героизм – это преодоление страха, а не его отсутствие.
Грант показал на сотни золотых фигурок и выписанных киноварью сентенций на стенах читальни, на огромные фолианты в тяжелых, покрытых серебром и украшенных драгоценными камнями переплетах; книги покоились на пюпитрах, к которым были прикованы цепями.
– Я опасаюсь смерти, – проговорил немец. – Но жажда познания сильнее страха. Моя наука касается земных дел; поскольку проникновение в дела небесные не приносит никакой практической пользы. И у меня разрывается сердце, когда я смотрю на это здание. Здесь лежат, как в могиле, последние невосполненные крупицы мудрости древних ученых. Никто не позаботился хотя бы составить список тех сочинений, которые тут хранятся. Мыши грызут манускрипты в сводчатых подвалах. К философам и отцам церкви относятся с уважением, а математику и инженерное дело скармливают крысам. А этот старый скупец даже не понимает, что ничего бы не потерял, если бы позволил мне покопаться в его подземельях и зажечь там фонарь, чтобы поискать – и обрести ту бесценную и забытую мудрость, которую он стережет. Когда придут турки, это здание тоже погибнет в огне и дыму, а рукописи будут гореть в кострах, которые разведут под котлами с похлебкой.
– Ты сказал, когда придут турки… – перебил я Гранта. – Значит, ты не веришь, что мы выстоим?
Немец улыбнулся,
– Я подхожу ко всему с земными мерками, – ответил он. – И смотрю на вещи реально. Потому и не обольщаюсь напрасными надеждами – в отличие от более молодых и менее опытных людей.
– Но, – изумленно воскликнул я, – в таком случае и тебе принесут гораздо большую пользу сочинения о Боге и о том мире, который стоит за границами земной реальности, чем какие-то рассуждения о математике и инженерном искусстве. Зачем тебе самые удивительные машины, если ты все равно скоро должен умереть?
Грант ответил:
– Ты забываешь о том, что все мы должны умереть Но я совсем не жалею о том, что жажда познания привела меня в Константинополь, на службу к императору. Мне уже посчастливилось увидеть самую большую пушку, отлитую человеком. Взглянув на нее, я понял, что ради одного этого стоило оказаться здесь. А за два листка забытого сочинения Архимеда я бы с радостью отдал все благочестивые произведения отцов церкви.
– Ты – сумасшедший, – с отвращением произнес я. – Твоя страсть к познанию превратила тебя в еще большего безумца, чем султан Мехмед.