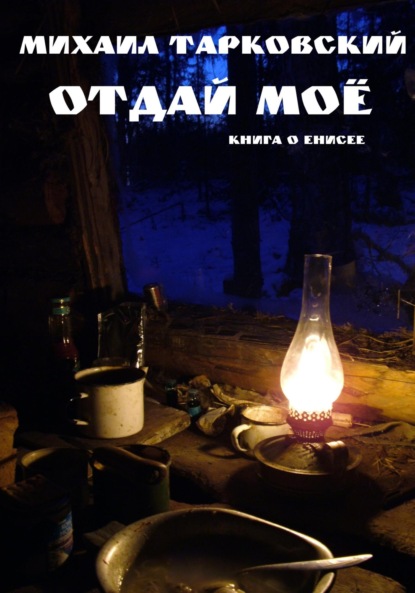По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отдай моё
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На следующий день Елизарыча привезли на вертолёте с северо-востока. Оказалось, в Лебедь его обещали завести только на обратном пути после посадки на буровой на Аяхте, но с Аяхты полетели за какой-то штангой в Туруханск, а откуда их отрядили в Дигали. Из Дигалей они повезли на подвеске дизель, причем как на зло раздулся северище, подвеску стало раскачивать, и они едва не сбросили её в болотину, и вернулись. Ждали погоды, пили в Дигалях, и потом еще болтались дня три над горами, тайгой и тундряками, в то время как обезумевшая Лариска и почтовые начальники искали пропавшего Елизарыча, в котором, взбрызнутые спиртом, вызревали, обрастая фантастическими подробностями новые страницы его приключений. В вертолёте Елизарыч мертво спал в обнимку с мешком. В мешке было письмо от мамы.
Мама писала о чём угодно, и Митя лишь в конце наткнулся на нужное: передать отцу то, что он просит, невозможно. В изощренной системе намеков было зашифровано, что она забоялась контрразведки. Митя был вне себя от бешенства: «Дел у них нет кроме моей писанины!»
В Дальний он вернулся с настроем на прежнюю, проверенную жизнь, по недоразумению и в суете забытую. Никаких писем, никакого ожидания. Точить топоры и цепи. Жилье, инструменты – всё безжизненное, жалкое, словно сдутая камера – надуть, оживить, чтобы расправилось, стало таким же важным, как и раньше.
Возил сухие дрова с гари. Дело считалось хорошим: одно – в Енисее лес ловить, мотор гробить, плавить плот, смотреть чтоб ветром не разбило, проверять, пока обсохнет. Потом пилить – по песку цепи сохатить, ломом бревна ворочать. Потом возить из-под угора. А другое – прямо у дома на снегу распилил – и пила не греется, и цепь хорошо идет, смазываясь талой водичкой. Снег зернистый, синий, хватишь вентилятором, и летит брызгами из-под кожуха.
Белая, полная света, даль в конце зимы, бесконечный приполярный день, высокий яр со снежными проплешинами – всё дышит ветром, простором, налетает, промывает глаза, легкие. Митя колет дрова, собирает сухие кедровые поленья, лёгкие, как пробка. Прижимает их к груди, одно вываливается, убегает: какие они тёплые, как щенки!
Ближе к весне, к распутице, когда отпустит снег и не привезёшь воды, Митя запасал лёд, раскапывая на Енисее торосы, еле торчащие из снега. Верхние пластины были оплавленные солнцем, набравшие воздуха, белесые и пористые, но ниже под ними он расчищал наконец тёмную жилу – драгоценную дымчатую синь, колол на кристальные куски и складывал в сани.
Возле дома разметалось целое хозяйственное побоище. Серые без коры кедровые стволы с розовыми торцами, щепки, чурки и поленья кучей, и тут же сани со льдом, кускасто блестящим на солнце, и потухший матовый лед в бочке. И, казалось, если и есть в жизни великая и единственная правда – то она в этих кусках дерева и воды, в этой угловатой и грубой материи, готовой, обогрев и напоив, переплавиться в текучие тепло и влагу, и хотелось одного – служить этой правде, не рассуждая.
Проехал старовер и дал пару кругов мороженного молока, и оно тоже кололось, и скол был неправильным и стеклянным. Митя свалил на топорище берёзу, распилил на метровые кряжики, и когда привез к дому, на мерзлых спилах в самом яблочке мокро темнела влага, замерзая блестящим и выпуклым кругляшом, и было что-то пронзительное в том, что морозяка давит во всю, а берёза уже сочит оживающей сердцевиной.
Лишь подкопилось в душе на новые рассказы, снова засел, и перечитав, как прозрел. Понял, что впервые вышло, потому что не о себе стал писать, а в другого научился перекатываться тугим шаром, каплей перетекать, и, забыв себя, его накачивать, развивать, но не своим, а евоным, чужим, тем, с чем сам не согласен, что самому не по силам. «Да… шире ходить надо, не плестись подле себя, а уж уйти, как раствориться… и уже складывался письмо маме – спокойное, благодарное, что, спасибо, удержала тогда от спешки, а ведь и сейчас за ту писанину сквозь землю готов провалиться, как представлю отца, аж дурно», – думал Митя, не ведая сколько еще таких "прозрений" на пути.
Изредка наезжал в Лебедь. Елизарыч был через раз то раскаленный водкой, светящийся, то серый и отвердевший, как новый топор. Накал минувшей гулянки определялся по звону, дребезгу голоса, каким он передавал телеграммы. Они уходили в район и принимались по рации, и нередко из-за плохого прохождения перевирались до неузноваемости. А иногда хватало смеха и без перевирания. В Дальний приезжал профессор-флорист, собиравший гербарии из укосов, производимых на специальных огороженных площадках. Жил он у тети Лиды. Среди рабочих реликвий была у него старинная бабка для отбивания косы, прошедшая с ним двадцать лет по экспедициям. Из-за суеты с вертолётом он забыл её в листвяжной чурке и забросал Дальний телеграммами: "Срочно приберите бабку". Студенты дохли со смеху, а тетя Лида возмущенно плевалась: "Бог приберет! Бесстызая роза!"
3.
Митя не любил людей, что со знанием дела говорят: "– Да, что вы? Будет война (или инфляция), обязательно, можете не сомневаться", будто поджилками силу чуют и хотят примазаться. Новость о болезни отца он воспринял как проявление чего-то подобного, как сплетню, слабость, гнилоту, мол, сами дохлые и его тянете. Не хотел верить, не хотел слышать, хотя Глазов был не просто болен, а болен серьезно, и слышать приходилось. Все дела, дрова, планы будто рухнули, башку как выдуло… Первая мысль, прошмыгнувшая в зазиявшую пустоту раньше его самого, была – а вдруг, не дай Бог… Вдруг не успею…
– Это кто это не успеет! – вспотел, и навсегда даванул извивающуюся, дезертирскую мыслишку, так что хрустнула: никаких рассказиков в посылках, никакой спешки, никакой паники. Поправится. Поправится и всё прочитает. А пока молчать, молиться о здравии и работать.
Но работалось далеко не всегда. И даль Енисея не всегда была напитана солнцем, и снег постылел, и зачитанные до дыр отцовские книги вдруг казались странными, чужими, как бывает, когда слишком пристально смотришь. И всё чаще не давало покоя: в раннем детстве отец казался взрослым, сложившимся, неподвижным, а на самом деле у него только всё интересное начиналось, да вот продолжилось где-то на стороне, уже без Мити и без мамы. А так хотелось, чтоб растил он свои книги вокруг чего-то семейно-общего и единственного, а он взял, да и вышагнул из их тепла к своему будущему и никого не взял в дорогу. И ведь при Мите всё брезжило, рядом, в двух шагах… Он так и думал – папина трубка, ножик: брать нельзя, а тоже моё, и даже вдвойне, накрепко, раз запретом опечатано, а отцовское будущее только Женечка мог потрогать. Оно, конечно, тоже его, но уже на общих правах, и потому может и дороже, как выстоенный в очереди билет против дарового. На общих правах оно даже как-то и честнее… и вкуснее. С голодухи. Ничего… У меня тоже теперь заливчик имеется – маленький, но свой, и вода в нем чистая, потому что енисейная. Скоро попробует – скажет… Хотя это только с виду у каждого море свое…
Помнится, когда пришли с бабушкой поздравить с днем рожденья, в прихожую выбежал Дик, здоровенный водолазина, и Митя, тертый лесовик – не в пример некоторым тепличным – спросил небрежно: " Кобеля-то вязали уже?" Женечка выпросительно посмотрел на отца, а тот объяснил с улыбочкой, что, видишь ли, Женя, собаки тоже, как дяди и тети, женятся. Пока накрывался стол, прошли в кабинет, где Евгений Михайлович, выслушав бабушкин отчет о Митиных птичьих увлечениях, обратился к Жене, пригревшемуся, прилегшему на стол, и с любопытством изучавшего бабушку. В продолжение какого-то застарелого разговора, Глазов сказал, мол, смотри: Митя, уже знает, что хочет, конечно, неказистый с виду выбор, но свой, так что, милостивый государь, пример надо брать.
Как-то раз маленький Митя, чуя неладное, спросил дядю Игоря, почему это сосед Сашка так похож на своего отца, "такой же толстый?" И тот, оживившись, ответил, что и мама у них толстая, и собака, "а кошара – ну прямо дирижабль" – дескать, когда люди долго живут вместе, то и становятся похожими друг на друга". Только Бабушка Вера Ивановна не вела с Митей лицемерных разговоров, и когда прижал ее, откуда берутся дети, она так сумрачно брякнула все почти как есть, что стало стыдно.
Но "недетские" вопросы показались детскими, когда Митя спросил: "Что значит "Душу мне развеять от тоски?" Бабушка смешалась, отмахнулась, то ли побоявшись слов не найти, то ли себя испугавшись, и вдруг поняв, что пора, однажды летом пустила по Митиной душе Чехова и Толстого, читая вслух и пробивая в ней себе дорогу, как пехоте.
Митя поражался её способности жить чужим. Она так верила в существование князя Андрея, княжны Марьи, что её участие становилось едва не солью книги. При словах "князь Андрей умер" голос её дрожал, с Долоховым Митя подозревал какой-то гимназический роман, а с Кутузовым была просто беда. Судила она так же строго, как и любила, и было обидно за толстовских слабачков и посредственностей, тем более, что гусар Ростов Мите нравился гораздо больше размазни-Пьера.
Митина семья долго жила без телевизора. "Только глаза портить," – фыркала бабушка, гордясь, что Митя узнал "Войну и мир" до появления кинофильма. Они жарко обсуждали, такой Пьер в фильме или не такой, а в Дальнем оказалось, что Элен не такая даже у Толстого, её неожиданная черноглазость была как удар.
Сколько в бабушкином «такой-не такой» было страха за свою любовь, сколько ревности, стыда перед Толстым, что кто-то нетонкий прикоснется к родному, увидит проще, грубее. Отцу же, который сам не описывал внешность героев, нравилось, что каждый по-своему представляет Наташу и Долохова, потому, что, как убеждал он бабушку, чем богаче слой прочтений, тем мощнее, крепче за Толстого, и спокойней, что все хоть и представляют героев по-разному, а любят за одно.
Когда стал постарше, спросил бабушку, почему у деда другая семья, "что, разве не любил её дедушка", и она ответила: "Сначала любил, потом перестал", тем же голосом, как Хромых сказал "сначала ушел, потом уехал". Но такие вопросы слетало с языка всё реже, и будто против его воли, всякий раз вызывая чувство потери, как в сказке, когда тратят запас волшебства. Вот и приходилось быть настороже, а пуще боялся сам оказаться уличённым в чем-то лирическом, личном. Не выносил походы с бабушкой на фильмы с любовными или военными сценами, топтание в музее перед кровавыми картинами или обнаженными статуями – было непонятно, как бабушка выдерживает такую концентрацию крови и плоти. Да и вообще, как она жива, когда столько в ней перепахано – целое поле. Которое, чуть ветерок, неосторожное слово – зашумит, заволнуется, заходит ходуном, и подхватив тебя, понесет вдаль, туда, где деревни, леса, да болота, и густым, предосенней пробы, золотом горят на закате сосны. Каждый вечер, возвращаясь с реки, они останавливались и оборачивались. На траве и на поле сыро лежала тень, и только пылали сосны, а они смотрели на этот жгучий, горький свет, и Митя знал, что такая вот она и есть – тоска, хоть вёдра подставляй, и пусть ему восемь, а бабушке пятьдесят лет – сеет насквозь, не жалея.
В старших классах Митя занимался в кружке при зоомузее, выезжал на выходные за город, но остальное время шлялся с гитарой и приятелями по улицам. Учился плохо. Бабушка тайком ходила в школу, а на уроке учительница раздраженно выговаривала Мите:
– Спишь, Глазов! Опять бабушка будет приходить четверку вымаливать.
Класс смеялся, а собрании родителей Вера Ивановна заводила: "Как Вы думаете, его не испортят?", и все это обсуждалось между родителями и школьниками, и его товарищ, крепыш, горнолыжник и гитарист, лыбясь, цитировал бабушкино описание Митиного отъезда в лес: "Х-хе, мешок на себя навьючит".
После провала на зоологический факультет Митя год работал и, купив на одну из первых зарплат купил магнитофон, переписывал плёнки, и особенно много слушал одного хриплоголосника. Дядька хрипел так, будто не мог откашляться, будто за короткую жизнь такой гадости набрал, что всё пытались выпеть её, выкричать, а она всё булькала, хлюпала в горле, пока он, так и не прооравшись, не погиб от водки и духоты. Бабушка его на дух не принимала:
– Орет, как пьяный мужик.
Песня называлась "Разведка боем": разведчик набирает группу в разведку, и ему не нравится малый из второго батальона, но потом, оказывается, что паренёк, которого он не совсем знает, "очень хорошо себя ведет". Бабушка всё слышала, делая вид, что занята, а после слов:
С кем обратно идти, где Борисов, где Леонов?
И парнишка затих из второго батальона
вытерла глаза и быстро вышла из комнаты.
Митя сам что-то сипел под восьмёрку, и досипелся до своей самодельной песенки, которую спел по телефону подружке. Трубка лежала перед гитарой, и он не знал, что на кухне бабушка сняла вторую. В песне он кого-то догонял, то ли девушку, то ли осень, то ли обеих в одном лице, и причем ночью и на очень мощной машине. После слов:
«И снежинки, пьяные от света,
Насмерть разбивались о стекло.»
– вошла бабушка с блестящими глазами, сказав что-то хриплое, а он покраснел как рак, и выбежал на улицу.
Однажды Митя крепко нарезался со старшими товарищами-студентами. Пили в стекляшке пиво, сухое и портвейн в скверике, не жрали, с кем-то корешились, а потом компания рассосалась, и он поплелся домой. Еле дойдя, буянил, а едва залег, его затошнило. Тамара Сергеевна и Вера Ивановна, с которой он спал в одной комнате, носили таз. Упреждая упреки, орал что-то безобразное и косноязычное. Потом рухнул. А однажды утром бабушку разбило. Попойка и бабушкин паралич были главными событиями той поры, и то ли памяти не за что было между ними зацепиться, то ли жизнь слишком неслась, но время между пьянкой и бабушкиным инсультом сжалось в одну ночь и навсегда запомнилось, впечаталось, что вот вечером он буянил, а утром бабушка уже лежала парализованная его криками, рвотой, капризностью скотины, требующей облегчения… Вся его трепетная отдельность, нежелание тревожить близких переживаниями – все рассыпалось, разлетелось по комнате брызгами рвоты, которые ранним утром он счищал с лака своей гитары, а бабушка лежала рядом, виновато улыбаясь половиной лица. Через год она умерла. А через пару лет Евгений Михайлович уехал в Ливерпуль, где у него образовался контракт с британским телевидением.
4.
Тогда у Елизарыча Лариска пыталась уложить Митю на кушетку, но Елизарыч заранее кинул ему старый собачий спальник, на котором он с удовольствием растянулся.
Приснилась бабушкина смерть. Все сидят на кухне, и вдруг бабушке становится плохо, вызывают скорую, и бабушка уже внизу, на улице лежит на какой-то кровати и санитар кричит им вверх, что она умерла, а они с мамой сидят, как приклеенные. Бабушка в Митиных снах умирала не однажды и всегда по-разному, и Митя от одного ожидания, что горе вот-вот навалится колесом, глубже прорежет душу по старой ране, готов был спятить, а бабушка оставалась наивно-спокойной и всегда умирала, как впервые.
И вот от этой её наивности ещё сильнее душит горе, хочется плакать, но слёз нет, нечем дышать, и он просыпается от приступа астмы. Озираясь, он видит свет в приоткрытой двери, какой-то рыжий глазок, оказавшийся плиткой, и все крутится под ним пол, или он сам крутится в незнакомой полутьме, пока не замирает, как стрелка, покачавшись в стороны, и не узнает кухню почтаря. Он встает, чувствует на лице и шее трухлявый собачий ворс и садится на табуретку у стола.
Сон теряет краски, и скорбь, как рыбина на воздухе, тоже выцветает, лишаясь силы, а он не хочет отпускать своего горя, своей любви, своей гаснущей близости к бабушке, и взяв со стола налитую стопку, выходит с ней под звезды, и долго дышит сквозь маленькую дырочку в отекших бронхах, пока её не начинает протачивать морозным воздухом.
И думает о том, что копии с воспоминаний должны бы тускнеть, образ с годами – забываться, а он только набирает силу, настаиваясь на снах, и чем дальше, тем ярче, обещая под конец дойти и вовсе до живой крепости, словно бабушка, отчаившись догнать его из прошлого, пробиватся к нему с другой стороны.
Митя поднимает мерцающую стопку к небу, долго глядит сквозь густую и горькую водку на любимую бабушкину Кассиопею и этим звёздным настоем поминает бабушку так светло и горячо, как только бывает в жизни.
5.
Раньше Митя себя считал самой главной и устойчивой частью жизни, а время – чем-то зыбким и суетливо сквозь него скользящим, теперь же единственно главным и извечным стал загнутый в прозрачное колесо оборот енисейского года, на который человек лишь наматывался, и на сколько витков хватит, одному Богу известно. Если раньше время мерялось часами или неделями, то теперь – только скрипом льда в берегах, непосильным трудом по замораживанию и размораживанию рек, перелётом птиц и шорохом ветра, всё будто поправляющего, одергивающего и переставляющего что-то вокруг дома.
По сравнению со всем этим начальственные выходки Поднебенного, то норовящего под страхом увольнения вызвать в командировку в разгар осени, то шлющего бессмысленные телеграммы, вроде: "пролонгируйте закрепление электростанции Глазовым", казались смешной и мелкой возней, а сам Поднебенный – несуразной и назойливой помехой, чье краткое присутствие еле терпелось. Каждое лето вокруг поселка терлась подозрительная публика, то какой-то хитрец-палаточник из Москвы, то списанный капитан, то дальний, липовый и одноглазый родственник тети Лиды по кличке Пусто-Один, все обхаживали Поднебенного и, предлагая услуги, рвались на работу в Дальний – место было безлюдное и во всех смыслах превосходное. Начальник сиял:
– Дима, не забыли, что скоро договор кончается? На твое место, хэ-хэ, очередь уже!
Наука давалась со скрипом. Дальше учетов и отчетов дело не шло. Мефодий требовал мыслей и понимания направления, а Митя в направлении не видел ничего, кроме превращения живых птиц в колонки цифр. Не было большего страдания, чем вымучивать статью – чувствовал себя школьником на сочинении про фамусовское общество, когда герои как живые, а про" социальную роль" двух слов не связать.
Сами учеты Митя любил, ходил и ездил почти каждый день, и все у него было почти как у Хромыха, так же грел "буран", поигрывая подсосом, так же накрывал брезентом, перевалив Енисей, и нацепив камусные лыжи, ломился в гору. И так же напряженно стоял посреди тайги, освободив из-под шапки ухо, только Хромых собак, а он позывки клестов и поползней. В теплую ватную погоду, оглушенная снегопадам, тайга молчала, копя силы и про себя попискивая синицами, а в мороз взрывалась звоном проколевших глоток. Ниоткуда взявшихся щуров, казалось, на глазах вымораживало из каленого воздуха. Похожие на клестов, только еще крупнее и туже, они сидели на вершине высокой и стылой листвени, медно-красные в лучах низкого солнца, а в полёте перекликались протяжным и многоверстным повелительным посвистом, висевшим в небе, как след самолета. В тепле щуры загадочно растворялись.
Митя несся по замерзшей забереге на "буране", и морозный воздух вминало в воздухозаборники капота, а потом перемалывало вентилятором и кидало на горячие цилиндры, и как пил двигатель этот холод, так и Митина душа, привыкшая к простору и набравшая обороты, тоже не могла без этой налетающей дали, в которой мешалось солнце, каменный снег, чёрные кедры – все настоящее, грубое и до хруста напитанное синевой. И выходило, что Поднебенный управлял этим потоком, мог его придержать, отвести, направить на другого или вовсе прикрыть.
– Кинь ты ему пару хвостов, – недоумевал Хромых, – он же ждёт.