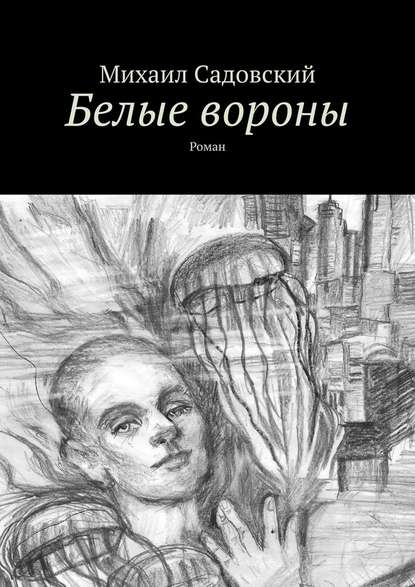По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белые вороны. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Белые вороны. Роман
Михаил Садовский
Книга повествует о женщине, которая после излечения от онкологии обнаружила у себя способность рисовать. Её талант высоко оценивают профессионалы. Она пытается понять, как происходит, что она может создать на бумаге образы, рождённые её мыслями. Хирург, спасший ей жизнь, признаётся ей в любви, она не безразлична к нему, но любит мужа и не представляет жизни без него. Когда болезнь вновь возвращается, она верит, что два любящих человека сделают всё для её спасения.
Белые вороны
Роман
Михаил Садовский
Корректор Светлана Чеканова
Художник обложки Ольга Колоколкина
© Михаил Садовский, 2020
© Ольга Колоколкина, художник обложки, 2020
ISBN 978-5-4498-7243-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Памяти моей жены
Маргариты Садовской.
Без тебя не было бы этой книги.
Вероятнее всего, мы бы никогда не узнали о жизни людей, которым посвящены эти страницы, если бы они не оказались связаны с судьбой одного из них, мелькнувшего, как малая вспышка от рождения звёздочки, оставшейся на небосклоне в бесконечной Галактике и затерявшейся среди неисчислимого количества таких же, похожих. Но с течением времени каждая из них может обрести номер или даже имя, потому что окажется связанной с судьбой, орбитой, существованием более крупной звезды. Пути господни неисповедимы, может быть, присвоение ей имени или даже просто многозначного номера – начало нового пути небесного вечного тела, может быть, оно окажется связанным с важным событием или процессом. Может быть, ляжет важной частичкой в мозаику мироздания.
Так в искусстве высвечиваются вдруг неожиданно люди. Они своим порой совсем кратковременным появлением и творчеством, не похожим ни на чьё предыдущее, открывают новые пути или создают нечто интересующее и волнующее многие годы или века всех, кто знакомится с их творениями, как гениальные фрески Тассили, находки Шлимана или наскальные рисунки далёких безымянных предков, кумранские обрывки великой Книги.
Стоит сказать, что не известность или слава вызывают больший или меньший интерес, а само явление, появление такого феномена, который хочется понять, вникнуть в его суть и возникновение. Когда яркая новая страница творчества ничем не была заранее хотя бы намёком предопределена для окружающих, как и для самого этого человека, и удивляет его не менее, если не более, чем всех остальных.
С развитием человечества, когда оно подошло уже к желанию создать искусственный разум, ответ на эти вопросы становится всё более актуальным. Трудно представить себе достижение цели, используя логическую цепочку процесса, в которой будет отсутствовать самое главное звено: чувство, реакция живого организма, его эмоция, не воспроизводимая даже самим этим организмом, неповторяемая, всегда новая, свежая, отличающаяся от аналогичной, пусть совсем недавней. Так, копия картины гениального художника – всегда новая картина, исполнение гениальным пианистом того же самого произведения – всегда иное, не повторяющее буквально предшествующее, и конечный вариант стихотворения – плод длительных, а порой и мучительных поисков соответствия слов их побуждающему чувству и эмоциям, им рождаемым. Черновик Пушкина рассказывает об этом точно и неоспоримо. А рисунок ребёнка никогда и никем не может быть повторён, потому что нет возможности войти в его непосредственность и эмоциональное состояние, которые водили детской рукой. Зачитанная до ветхости, любимая книга привлекает нас прочесть её снова, и каждая такая встреча с ней – новое свидание с похожими, но совершенно новыми нашими эмоциями. В этом и есть суть творчества – уникальность, неповторимость, невоспроизводимость – почерк.
Эмма думала об этом часами и уже больше не удивлялась тому, что происходит с ней, благо теперь, в уединении, у неё было достаточно времени, и ничто не отвлекало её, как прежние заботы ординарной жизни.
Даже мысли её о близких людях стали совершенно другими, и то, что было привычным и не требовало никаких объяснений, теперь невольно стало предметом долгих поисков в памяти поступков, ситуаций, сказанных слов для понимания и сомнения в устоявшемся годами, казавшемся единственно возможным и неизменным.
Она пыталась перешагнуть время, смещала события, тасовала их, не прибегая к логике, и это открывало совсем неожиданное их понимание, как вид на долину по мере восхождения на гору, как смысл строфы, прочитанной в разном возрасте. И ещё – смена отношения к предмету, о котором мечтала долгие годы, и, обретя его, удивлялась: а почему и ради чего?
Странную жизнь прошёл Фортунатов. Иногда судьба окликала его и пыталась что-то сказать, дать совет, но он только отмахивался. Он всегда знал, чего хочет и что делать для того, чтобы осуществить желание, а теперь растерялся – не было ни одной прямой дороги. Хотел оглянуться назад, вспомнить что-то похожее из своей жизни, какую-то ситуацию, конфликт и как всё это разрешилось – он всё помнил чётко, и будто вчера это было: краски, запахи, дороги… а вот почему поступил так – не мог припомнить. Поскольку оказался ленив, дневников не вёл, не анализировал и не записывал, а те самые важные детали и мотивы поступков совершенно пропадали в потоке событий. Всё происходило последовательно и, казалось бы, обоснованно, но вдруг сейчас, по прошествии лет, закрадывалось сомнение о прошлом: правильно ли поступил, туда ли повернул? И он не мог ответить себе. Отпустить бы всё это! Прошлое – осталось на том берегу, и нечего туда возвращаться, новых проблем не меньше, и надо их решать, преодолевать пороги и перевалы, но почему-то тянуло назад, и виделось нечто уже прожитое, и, оказывается, не всегда удачно. Вот бы вспомнить подробно, как оно всё было и почему так поступил или никак, ничего вовсе не делал, а плыл по течению, как шли день за днём, так и жил.
Вдруг он решительно брался за перо, доставал старую общую тетрадь с прилипшими навсегда к клейкой коленкоровой обложке кусочками бумаги и пылинками, открывал её, пролистывал страницы со старыми записями, сделанными в такой же решительный момент бодрого дня, доходил до свободной пожелтевшей страницы и застывал над ней. В задумчивости пробовал шарик ручки на каком-то подвернувшемся листочке – мягко ли пишет и не мажет ли. Долго сидел, потом закрывал тетрадь и откладывал до вечера или до утра – «сформулирую и напишу», что было как афоризм – и доказательно, и неколебимо. Но редко случалось, что возвращался к медленно угасавшему побуждению, чтобы не утерять его вовсе, потому что думал: а что особенного в том, что я хотел записать, объяснить, сохранить? Да ничего. Ему бы именно и записать это ускользающее чувство, мысль момента, сам момент – поймать время. Тогда, сложившись в эти мало значащие прожитые отрезки позволили бы восстановить, как оно было, и объяснить, почему он прожил каждый следующий день так, а не иначе. И ничего не значащее сегодня «сегодня» через месяц, год, а может, десять лет стало бы наверняка интересным и значимым, пусть даже только для него, и помогло бы ему уже не тогда «сегодня», а именно в данный момент, именно сегодня! Из этих точек и составилась бы линия его жизни и поступков, что подсказало бы ему: как быть? Было же похоже. Что делать? было же уже так…
Но Фортунатов был ленив именно в этом, видимо, ленив непреодолимо. Друзей поражало, когда он начинал рассказывать о прошлом с такими подробностями, будто именно в ту минуту смотрел на картинку или какую-то внутренне движущуюся ленту и транслировал остальным то, что видел сам.
– Лёнь, неужели ты всё это помнишь? – спрашивали его прожившие не меньше и знакомые с ним давно.
– Помню, представляешь, помню! Разве такое выдумаешь… это же на правду не похоже, а как плохое кино… но плохое кино второй раз смотреть не будешь, а это прожитое, такое закрученное и неправдоподобное, забыть не можешь, и хоть на детекторе лжи проверяй – всё повторишь слово в слово! Когда выдумываешь, так не бывает, обязательно приврёшь чего-нибудь, пусть даже совсем незначимое, а уже не та картинка и мелодия не та…
– Так ты бы записывал, что ли! – говорили ему часто.
– А зачем? – перебивал он. – Не моя это работа!
И в этот момент вспоминал всегда о свой общей тетради, о которой никто не знал. «Вот и хорошо, что не записал! А то было бы опять как у всех. А главное, стал бы писать – оглядывался бы всё время: а как это потом, когда прочтут, будет? – возражал он себе. – Зачем всем знать это? Да чего там прочтут?! Обязательно, что ли? А если не прочтут, зачем писать-то?!».
Дотарахтели они по застругам на заметаемом шоссе на перевозке довольно быстро – что там 20 миль по хорошей дороге и при вполне приличной видимости. А потом, пока её принимали, он заполнял какие-то бумаги, подписывал разрешения, что у неё возьмут кровь на анализ, что она должна в стаканчик нацедить драгоценной своей жидкости на другой анализ и что она разрешает делать операцию… она сама не могла написать. Потом прибыла целая команда из другой клиники, из которой вчера звонили и объяснили, что в том госпитале, в который они поедут, нет таких специалистов и такого оборудования и что это обычное дело, когда коллеги приезжают к хирургам на особо сложные операции. Потому что они неврологи, а при движении внутри организма хирург будет их спрашивать, можно ли двинуться ещё на миллиметр, или это опасно и даже смертельно. А она уже лежала на каталке, укрытая нагретыми одеялами, потому что её знобило от волнения, и меловые щёки как-то впали вдруг, и, если долго пристально смотреть на её лицо, по ним пробегала какая-то лёгкая судорога, будто муха села на мгновение, а кожа среагировала и сократилась, чтобы согнать её…
Время текло так уравновешенно медленно, что уже показалось, что все эти сёстры и помощники в белых халатах не ходят, а плавают вертикально вокруг неё и тоже томятся и не знают, как быть…
«А что, какие-то сложности возникли, анализы плохие?» – переспросил Фортунатов, но его уверили, что всё в порядке, что сейчас эта команда, которая приехала помогать, опутает её проводами и установит свои приборы – сейсмографы жизни, как он их нарёк, и к тому времени подъедет доктор! Он уже звонил, заканчивает в другой клинике операцию и через сорок минут будет. «Сорок минут!» – оглушило его… и он опять стоял рядом, держал её за руку и сам ощущал, как её дрожь косичкой переплетается с его дрожью. Тогда он начинал гладить её кисть, свисавшую чуть-чуть за край каталки, и что-то бормотать ей, успокаивая и её, и себя…
Проводки разноцветные, одинокие и пучками, уже опутали всю её: шею, плечи, грудь, предплечья, даже под груди ей приляпали чпокающие присоски, от которых тянулись эти ниточки страховки к каким-то подмигивавшим ящикам со стрелками и кнопками…
Она задрёмывала, потом открывала глаза, искала его и только губами произносила тревожно и нежно: «Лёньчик, Лёньчик, Лёньчик Лёнечка…». Ему очень нравилось, как она мягко и сладко произносила его имя, и он подтягивал и подправлял совершенно не требовавшее этого одеяло…
А доктор всё не ехал. Фортунатов больше не спрашивал о нём. Он вышел в соседнюю комнату, где было окно, и почувствовал, что закружилась голова и стали слабыми колени: в окне была рождественская метель. Двадцать пятое декабря вдруг совершенно отчётливо мелькнуло в его голове… Он застрял где-то и вообще не приедет.
И эта дикая боль, сводящая жизнь к бессмысленному существованию, опять накинется на неё и будет грызть, пока он сможет это видеть и слышать её стоны, а потом он отключится, потеряет связь с миром, и она останется одна в этой метели боли, мгновенно покрывающей всё: слова, дыхание, свет – и оставляющей только одно ощущение – саму страшную боль, боль во спасение, потому что она одна кричит о помощи, и она одна скажет, пришла эта помощь или нет, утихнув и исчезнув бесследно.
Господи! Пойти оборвать все эти провода, схватить её и унести отсюда, задыхаясь! Тащить сквозь метель, как тогда без дороги, вслепую, с залепляющими лицо и глаза горстями снега, напрямую за оглядывающейся собакой, поджидающей всю дорогу и просящей: «Скорее, скорее! Иди, пока можешь, за мной, иди, иди – там спасение, иди через силу! Как я, за мной – мне уже снега по брюхо, но я же ползу, и ты иди – тебе снега всего по колено! И не останавливайся, потому что каждый раз, как ты остановишься, потом, чтобы двинуться дальше, встряхиваешь её на руках, чтобы лежала повыше, ближе к плечам и могла крепче обхватывать твою шею! Ну, иди, иди монотонно и не считай шаги! Видишь, я задираю нос и чую запах. Хорошо, что ветер в нашу сторону! Иди, уже близко! И не останавливайся, потому что, если ты отстанешь, потеряешься сразу в трёх шагах, уже не сможешь понять, куда двигаться дальше, а мне возвращаться придётся, и я тоже тащусь из последних сил! Ты что, не слышишь, как я взлаиваю и подвываю, не потому, что жалуюсь. А чтобы вы не потерялись в этой белой буре, где черти выдают замуж ведьму, а люди…».
«Что там за движение и голоса? Приехал доктор? Нет, не приехал. И голоса решают, что делать, сколько можно держать пациента на каталке, и связи с доктором нет. Непонятно, что случилось, что делать? И надо сказать супервайзеру, чтобы не назначали никогда операции на Рождество, потому что это день Господа, а не людей, и надо быть ко всем толерантными, и к Господу тоже, тем более…»
– Вам плохо? – тронули его за плечо.
– Мне? Разве?
– Но вы час двадцать минут стоите на месте, не шевелясь!
– Приехал доктор Нордстрём?
– Нет! Но вы знаете, что он приедет…
– Я???
– Да! Он приедет обязательно, потому что он прекрасный доктор, и второго такого поискать по всему свету…
– Такая метель… Рождество… может быть…
– Нет. Он приедет. И всё будет хорошо…
Кто знает силу слова, особенно когда его говорит человек в белом халате. Рождество… Христос родился, может, и она родится снова в этой метели, и как это записать, чтобы потом вспомнить и почувствовать то же: одно неточное слово – и всё враньё, всё напрасно и никому не нужно… А так: доктор Нордстрём где-то прорывается сквозь метель, и, может быть, оборвалась связь, и сломалась машина, завязла, застряла, налетела на другую – это же всегда так бывает – всё разом, беда никогда не приходит одна… Ну, не беда, не все беды разом, сказала же эта в белом чепчике, она монахиня, да? Она умеет видеть в метели? Всё будет хорошо? Что хорошо? Приедет доктор – хорошо? Сделает операцию – хорошо? И эти проволочки охранят её – хорошо? И он увезёт её через два дня – хорошо? Здесь ведь долго не держат: два дня, и хватит – хорошо?
Фортунатов был там, откуда ненадолго вернулся. Доктор приехал, и уже четыре часа все ходили с напряжёнными лицами и ничего не говорили, а он сидел возле палаты на диване, неожиданно впадая в дрёму и проваливаясь в белую стужу. Выла собака, чтобы он не заблудился, руки не разгибались, будто навсегда так застыли от тяжести полусогнутыми, мутило от голода, но он не понимал этого и ничего не спрашивал ни у кого, будто всё, что происходило рядом, его не касалось и шло так, как бы шло и будет идти без него. Он вспомнил имя и фамилию дочери, написанные на квадратике клеёнки, привязанной скрученным в тесёмку бинтом к её ножке в роддоме, как судьба – может быть, вот эти сигнальные светящиеся диоды и стрелки на шкале, привязанные к ней проводочками, тоже бирка её судьбы, и тут ничего не изменишь, и не подправишь и даже не прочтёшь ничего…
Собака спала на боку, лапы её вздрагивали, она их полусгибала и потом выпрямляла, будто вытаскивала из чего-то вязкого. Когда кто-то проходил мимо неё в сени, она чуть поворачивала голову, открывала один глаз и снова проваливалась в сон. Его товарищ – врач, пробившийся сквозь метель, прощупал Эммину ногу – всю, а не только распухшую лодыжку, потом так же для сравнения другую ногу и уверил, что никакого рентгена не надо, перелома нет и вывиха нет, обмазал щиколотку от подошвы животным жиром с болотным запахом, натянул поверх грубый колючий шерстяной носок, замотал шарфом и велел лежать трое суток… минимум. И метель крутила трое суток. Была она какая-то весёлая и бесшабашная: кидалась на окна, подвывала в каких-то щелях и гнусавила в трубе и в сенях. Не было уже ни страшно, ни одиноко, потому что ничего нового не могло случиться в грядущие три дня. Хотелось тоже повалиться на бок подобно собаке и изредка открывать глаз, чтобы убедиться, что нога в прежнем положении, метель так же не утихла, а пока она не захочет отдохнуть, ничего не может случиться в этом мире.
«Ну, тогда мы были моложе! А моложе – всегда лучше: и заживает быстрее, и запоминается легче, как новенькое, и забывается проще…
Михаил Садовский
Книга повествует о женщине, которая после излечения от онкологии обнаружила у себя способность рисовать. Её талант высоко оценивают профессионалы. Она пытается понять, как происходит, что она может создать на бумаге образы, рождённые её мыслями. Хирург, спасший ей жизнь, признаётся ей в любви, она не безразлична к нему, но любит мужа и не представляет жизни без него. Когда болезнь вновь возвращается, она верит, что два любящих человека сделают всё для её спасения.
Белые вороны
Роман
Михаил Садовский
Корректор Светлана Чеканова
Художник обложки Ольга Колоколкина
© Михаил Садовский, 2020
© Ольга Колоколкина, художник обложки, 2020
ISBN 978-5-4498-7243-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Памяти моей жены
Маргариты Садовской.
Без тебя не было бы этой книги.
Вероятнее всего, мы бы никогда не узнали о жизни людей, которым посвящены эти страницы, если бы они не оказались связаны с судьбой одного из них, мелькнувшего, как малая вспышка от рождения звёздочки, оставшейся на небосклоне в бесконечной Галактике и затерявшейся среди неисчислимого количества таких же, похожих. Но с течением времени каждая из них может обрести номер или даже имя, потому что окажется связанной с судьбой, орбитой, существованием более крупной звезды. Пути господни неисповедимы, может быть, присвоение ей имени или даже просто многозначного номера – начало нового пути небесного вечного тела, может быть, оно окажется связанным с важным событием или процессом. Может быть, ляжет важной частичкой в мозаику мироздания.
Так в искусстве высвечиваются вдруг неожиданно люди. Они своим порой совсем кратковременным появлением и творчеством, не похожим ни на чьё предыдущее, открывают новые пути или создают нечто интересующее и волнующее многие годы или века всех, кто знакомится с их творениями, как гениальные фрески Тассили, находки Шлимана или наскальные рисунки далёких безымянных предков, кумранские обрывки великой Книги.
Стоит сказать, что не известность или слава вызывают больший или меньший интерес, а само явление, появление такого феномена, который хочется понять, вникнуть в его суть и возникновение. Когда яркая новая страница творчества ничем не была заранее хотя бы намёком предопределена для окружающих, как и для самого этого человека, и удивляет его не менее, если не более, чем всех остальных.
С развитием человечества, когда оно подошло уже к желанию создать искусственный разум, ответ на эти вопросы становится всё более актуальным. Трудно представить себе достижение цели, используя логическую цепочку процесса, в которой будет отсутствовать самое главное звено: чувство, реакция живого организма, его эмоция, не воспроизводимая даже самим этим организмом, неповторяемая, всегда новая, свежая, отличающаяся от аналогичной, пусть совсем недавней. Так, копия картины гениального художника – всегда новая картина, исполнение гениальным пианистом того же самого произведения – всегда иное, не повторяющее буквально предшествующее, и конечный вариант стихотворения – плод длительных, а порой и мучительных поисков соответствия слов их побуждающему чувству и эмоциям, им рождаемым. Черновик Пушкина рассказывает об этом точно и неоспоримо. А рисунок ребёнка никогда и никем не может быть повторён, потому что нет возможности войти в его непосредственность и эмоциональное состояние, которые водили детской рукой. Зачитанная до ветхости, любимая книга привлекает нас прочесть её снова, и каждая такая встреча с ней – новое свидание с похожими, но совершенно новыми нашими эмоциями. В этом и есть суть творчества – уникальность, неповторимость, невоспроизводимость – почерк.
Эмма думала об этом часами и уже больше не удивлялась тому, что происходит с ней, благо теперь, в уединении, у неё было достаточно времени, и ничто не отвлекало её, как прежние заботы ординарной жизни.
Даже мысли её о близких людях стали совершенно другими, и то, что было привычным и не требовало никаких объяснений, теперь невольно стало предметом долгих поисков в памяти поступков, ситуаций, сказанных слов для понимания и сомнения в устоявшемся годами, казавшемся единственно возможным и неизменным.
Она пыталась перешагнуть время, смещала события, тасовала их, не прибегая к логике, и это открывало совсем неожиданное их понимание, как вид на долину по мере восхождения на гору, как смысл строфы, прочитанной в разном возрасте. И ещё – смена отношения к предмету, о котором мечтала долгие годы, и, обретя его, удивлялась: а почему и ради чего?
Странную жизнь прошёл Фортунатов. Иногда судьба окликала его и пыталась что-то сказать, дать совет, но он только отмахивался. Он всегда знал, чего хочет и что делать для того, чтобы осуществить желание, а теперь растерялся – не было ни одной прямой дороги. Хотел оглянуться назад, вспомнить что-то похожее из своей жизни, какую-то ситуацию, конфликт и как всё это разрешилось – он всё помнил чётко, и будто вчера это было: краски, запахи, дороги… а вот почему поступил так – не мог припомнить. Поскольку оказался ленив, дневников не вёл, не анализировал и не записывал, а те самые важные детали и мотивы поступков совершенно пропадали в потоке событий. Всё происходило последовательно и, казалось бы, обоснованно, но вдруг сейчас, по прошествии лет, закрадывалось сомнение о прошлом: правильно ли поступил, туда ли повернул? И он не мог ответить себе. Отпустить бы всё это! Прошлое – осталось на том берегу, и нечего туда возвращаться, новых проблем не меньше, и надо их решать, преодолевать пороги и перевалы, но почему-то тянуло назад, и виделось нечто уже прожитое, и, оказывается, не всегда удачно. Вот бы вспомнить подробно, как оно всё было и почему так поступил или никак, ничего вовсе не делал, а плыл по течению, как шли день за днём, так и жил.
Вдруг он решительно брался за перо, доставал старую общую тетрадь с прилипшими навсегда к клейкой коленкоровой обложке кусочками бумаги и пылинками, открывал её, пролистывал страницы со старыми записями, сделанными в такой же решительный момент бодрого дня, доходил до свободной пожелтевшей страницы и застывал над ней. В задумчивости пробовал шарик ручки на каком-то подвернувшемся листочке – мягко ли пишет и не мажет ли. Долго сидел, потом закрывал тетрадь и откладывал до вечера или до утра – «сформулирую и напишу», что было как афоризм – и доказательно, и неколебимо. Но редко случалось, что возвращался к медленно угасавшему побуждению, чтобы не утерять его вовсе, потому что думал: а что особенного в том, что я хотел записать, объяснить, сохранить? Да ничего. Ему бы именно и записать это ускользающее чувство, мысль момента, сам момент – поймать время. Тогда, сложившись в эти мало значащие прожитые отрезки позволили бы восстановить, как оно было, и объяснить, почему он прожил каждый следующий день так, а не иначе. И ничего не значащее сегодня «сегодня» через месяц, год, а может, десять лет стало бы наверняка интересным и значимым, пусть даже только для него, и помогло бы ему уже не тогда «сегодня», а именно в данный момент, именно сегодня! Из этих точек и составилась бы линия его жизни и поступков, что подсказало бы ему: как быть? Было же похоже. Что делать? было же уже так…
Но Фортунатов был ленив именно в этом, видимо, ленив непреодолимо. Друзей поражало, когда он начинал рассказывать о прошлом с такими подробностями, будто именно в ту минуту смотрел на картинку или какую-то внутренне движущуюся ленту и транслировал остальным то, что видел сам.
– Лёнь, неужели ты всё это помнишь? – спрашивали его прожившие не меньше и знакомые с ним давно.
– Помню, представляешь, помню! Разве такое выдумаешь… это же на правду не похоже, а как плохое кино… но плохое кино второй раз смотреть не будешь, а это прожитое, такое закрученное и неправдоподобное, забыть не можешь, и хоть на детекторе лжи проверяй – всё повторишь слово в слово! Когда выдумываешь, так не бывает, обязательно приврёшь чего-нибудь, пусть даже совсем незначимое, а уже не та картинка и мелодия не та…
– Так ты бы записывал, что ли! – говорили ему часто.
– А зачем? – перебивал он. – Не моя это работа!
И в этот момент вспоминал всегда о свой общей тетради, о которой никто не знал. «Вот и хорошо, что не записал! А то было бы опять как у всех. А главное, стал бы писать – оглядывался бы всё время: а как это потом, когда прочтут, будет? – возражал он себе. – Зачем всем знать это? Да чего там прочтут?! Обязательно, что ли? А если не прочтут, зачем писать-то?!».
Дотарахтели они по застругам на заметаемом шоссе на перевозке довольно быстро – что там 20 миль по хорошей дороге и при вполне приличной видимости. А потом, пока её принимали, он заполнял какие-то бумаги, подписывал разрешения, что у неё возьмут кровь на анализ, что она должна в стаканчик нацедить драгоценной своей жидкости на другой анализ и что она разрешает делать операцию… она сама не могла написать. Потом прибыла целая команда из другой клиники, из которой вчера звонили и объяснили, что в том госпитале, в который они поедут, нет таких специалистов и такого оборудования и что это обычное дело, когда коллеги приезжают к хирургам на особо сложные операции. Потому что они неврологи, а при движении внутри организма хирург будет их спрашивать, можно ли двинуться ещё на миллиметр, или это опасно и даже смертельно. А она уже лежала на каталке, укрытая нагретыми одеялами, потому что её знобило от волнения, и меловые щёки как-то впали вдруг, и, если долго пристально смотреть на её лицо, по ним пробегала какая-то лёгкая судорога, будто муха села на мгновение, а кожа среагировала и сократилась, чтобы согнать её…
Время текло так уравновешенно медленно, что уже показалось, что все эти сёстры и помощники в белых халатах не ходят, а плавают вертикально вокруг неё и тоже томятся и не знают, как быть…
«А что, какие-то сложности возникли, анализы плохие?» – переспросил Фортунатов, но его уверили, что всё в порядке, что сейчас эта команда, которая приехала помогать, опутает её проводами и установит свои приборы – сейсмографы жизни, как он их нарёк, и к тому времени подъедет доктор! Он уже звонил, заканчивает в другой клинике операцию и через сорок минут будет. «Сорок минут!» – оглушило его… и он опять стоял рядом, держал её за руку и сам ощущал, как её дрожь косичкой переплетается с его дрожью. Тогда он начинал гладить её кисть, свисавшую чуть-чуть за край каталки, и что-то бормотать ей, успокаивая и её, и себя…
Проводки разноцветные, одинокие и пучками, уже опутали всю её: шею, плечи, грудь, предплечья, даже под груди ей приляпали чпокающие присоски, от которых тянулись эти ниточки страховки к каким-то подмигивавшим ящикам со стрелками и кнопками…
Она задрёмывала, потом открывала глаза, искала его и только губами произносила тревожно и нежно: «Лёньчик, Лёньчик, Лёньчик Лёнечка…». Ему очень нравилось, как она мягко и сладко произносила его имя, и он подтягивал и подправлял совершенно не требовавшее этого одеяло…
А доктор всё не ехал. Фортунатов больше не спрашивал о нём. Он вышел в соседнюю комнату, где было окно, и почувствовал, что закружилась голова и стали слабыми колени: в окне была рождественская метель. Двадцать пятое декабря вдруг совершенно отчётливо мелькнуло в его голове… Он застрял где-то и вообще не приедет.
И эта дикая боль, сводящая жизнь к бессмысленному существованию, опять накинется на неё и будет грызть, пока он сможет это видеть и слышать её стоны, а потом он отключится, потеряет связь с миром, и она останется одна в этой метели боли, мгновенно покрывающей всё: слова, дыхание, свет – и оставляющей только одно ощущение – саму страшную боль, боль во спасение, потому что она одна кричит о помощи, и она одна скажет, пришла эта помощь или нет, утихнув и исчезнув бесследно.
Господи! Пойти оборвать все эти провода, схватить её и унести отсюда, задыхаясь! Тащить сквозь метель, как тогда без дороги, вслепую, с залепляющими лицо и глаза горстями снега, напрямую за оглядывающейся собакой, поджидающей всю дорогу и просящей: «Скорее, скорее! Иди, пока можешь, за мной, иди, иди – там спасение, иди через силу! Как я, за мной – мне уже снега по брюхо, но я же ползу, и ты иди – тебе снега всего по колено! И не останавливайся, потому что каждый раз, как ты остановишься, потом, чтобы двинуться дальше, встряхиваешь её на руках, чтобы лежала повыше, ближе к плечам и могла крепче обхватывать твою шею! Ну, иди, иди монотонно и не считай шаги! Видишь, я задираю нос и чую запах. Хорошо, что ветер в нашу сторону! Иди, уже близко! И не останавливайся, потому что, если ты отстанешь, потеряешься сразу в трёх шагах, уже не сможешь понять, куда двигаться дальше, а мне возвращаться придётся, и я тоже тащусь из последних сил! Ты что, не слышишь, как я взлаиваю и подвываю, не потому, что жалуюсь. А чтобы вы не потерялись в этой белой буре, где черти выдают замуж ведьму, а люди…».
«Что там за движение и голоса? Приехал доктор? Нет, не приехал. И голоса решают, что делать, сколько можно держать пациента на каталке, и связи с доктором нет. Непонятно, что случилось, что делать? И надо сказать супервайзеру, чтобы не назначали никогда операции на Рождество, потому что это день Господа, а не людей, и надо быть ко всем толерантными, и к Господу тоже, тем более…»
– Вам плохо? – тронули его за плечо.
– Мне? Разве?
– Но вы час двадцать минут стоите на месте, не шевелясь!
– Приехал доктор Нордстрём?
– Нет! Но вы знаете, что он приедет…
– Я???
– Да! Он приедет обязательно, потому что он прекрасный доктор, и второго такого поискать по всему свету…
– Такая метель… Рождество… может быть…
– Нет. Он приедет. И всё будет хорошо…
Кто знает силу слова, особенно когда его говорит человек в белом халате. Рождество… Христос родился, может, и она родится снова в этой метели, и как это записать, чтобы потом вспомнить и почувствовать то же: одно неточное слово – и всё враньё, всё напрасно и никому не нужно… А так: доктор Нордстрём где-то прорывается сквозь метель, и, может быть, оборвалась связь, и сломалась машина, завязла, застряла, налетела на другую – это же всегда так бывает – всё разом, беда никогда не приходит одна… Ну, не беда, не все беды разом, сказала же эта в белом чепчике, она монахиня, да? Она умеет видеть в метели? Всё будет хорошо? Что хорошо? Приедет доктор – хорошо? Сделает операцию – хорошо? И эти проволочки охранят её – хорошо? И он увезёт её через два дня – хорошо? Здесь ведь долго не держат: два дня, и хватит – хорошо?
Фортунатов был там, откуда ненадолго вернулся. Доктор приехал, и уже четыре часа все ходили с напряжёнными лицами и ничего не говорили, а он сидел возле палаты на диване, неожиданно впадая в дрёму и проваливаясь в белую стужу. Выла собака, чтобы он не заблудился, руки не разгибались, будто навсегда так застыли от тяжести полусогнутыми, мутило от голода, но он не понимал этого и ничего не спрашивал ни у кого, будто всё, что происходило рядом, его не касалось и шло так, как бы шло и будет идти без него. Он вспомнил имя и фамилию дочери, написанные на квадратике клеёнки, привязанной скрученным в тесёмку бинтом к её ножке в роддоме, как судьба – может быть, вот эти сигнальные светящиеся диоды и стрелки на шкале, привязанные к ней проводочками, тоже бирка её судьбы, и тут ничего не изменишь, и не подправишь и даже не прочтёшь ничего…
Собака спала на боку, лапы её вздрагивали, она их полусгибала и потом выпрямляла, будто вытаскивала из чего-то вязкого. Когда кто-то проходил мимо неё в сени, она чуть поворачивала голову, открывала один глаз и снова проваливалась в сон. Его товарищ – врач, пробившийся сквозь метель, прощупал Эммину ногу – всю, а не только распухшую лодыжку, потом так же для сравнения другую ногу и уверил, что никакого рентгена не надо, перелома нет и вывиха нет, обмазал щиколотку от подошвы животным жиром с болотным запахом, натянул поверх грубый колючий шерстяной носок, замотал шарфом и велел лежать трое суток… минимум. И метель крутила трое суток. Была она какая-то весёлая и бесшабашная: кидалась на окна, подвывала в каких-то щелях и гнусавила в трубе и в сенях. Не было уже ни страшно, ни одиноко, потому что ничего нового не могло случиться в грядущие три дня. Хотелось тоже повалиться на бок подобно собаке и изредка открывать глаз, чтобы убедиться, что нога в прежнем положении, метель так же не утихла, а пока она не захочет отдохнуть, ничего не может случиться в этом мире.
«Ну, тогда мы были моложе! А моложе – всегда лучше: и заживает быстрее, и запоминается легче, как новенькое, и забывается проще…