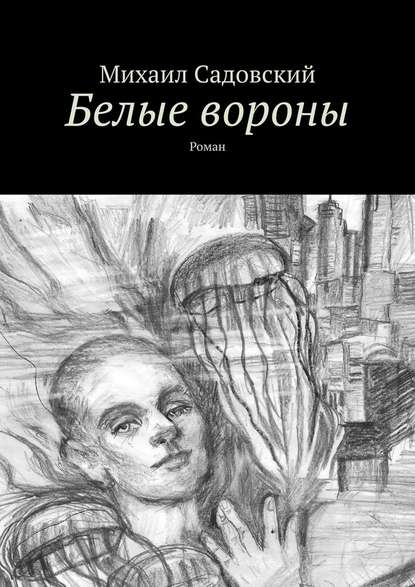По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белые вороны. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я сейчас! – он отпустил рукав, за который держался, чтобы достать деньги, и тут же рухнул на снежную дорожку!
– Эй, не спеши! Давай мы тебя в дом заведём, а деньги целее будут.
– Не беспокойся, пока ты очухаешься, мы ещё не раз пройдём мимо и пивка принесём…
– Иди, иди! Двигай ногами…
– Кончай трясти его… видишь, он совсем обмяк и отключился…
– Давай! Стучи в дверь, Дебора дома, давай занесём его, она сама не осилит…
– А?! Дебора, это ты? – Марк открыл газа и, не поворачивая головы, медленно переводил взгляд, не понимая, где находится.
– Кто же ещё? – она наклонилась к его лицу.
– А где парни? Надо с ними расплатиться!
– Какие парни, что с тобой? Ты мне уже целую историю рассказал! Какие парни?
– Которые откопали меня с машиной… ты что, не видела их, они же тащили меня, и ты встречала у двери?..
– Тебя? Где это было? Ты по такому снегу ещё куда-то таскался? То-то так поздно приехал… твоя смена четыре часа назад закончилась!
– Деби, что-то с тобой, а не со мной… я дотащился до твоей двери и отключился, и если бы не твои соседи, я бы задохнулся и замёрз в свой холодной машине прямо напротив твоей двери, а ты бы так и не догадалась посмотреть в окно…
– Подожди, подожди, я померяю тебе температуру… ну-ка… лежи, не вставай…
И он снова в одно мгновение отключился, как от наркоза, когда ты видишь, как тебе прокалывают вену, лицо анестезиолога, движение его пальцев на плунжере шприца и…
А потом возник разговор, которого Марк боялся.
– Ты пойми: я – белая ворона. Белая ворона в этом мире, где всё поставлено с ног на голову, – я не хочу делать карьеру! А ты спрашиваешь в который раз, почему я не женюсь на тебе… – он попытался засмеяться и поцеловать её – не получилось. Она встала и оттянула вниз свитер, может быть, чтобы показать ему, какой он дурак и от чего отказывается… но он же всё знал это и без свитера вовсе… так, машинально. – Вот женюсь, и ты начнёшь подталкивать меня и заставлять, а я не хочу делать карьеру! Ты спрашиваешь, почему я не иду учиться дальше? Зачем? Это и есть делать карьеру. Потратить ещё десять лет, чтобы в тридцать семь наконец открыть свой офис, завести удачную практику и стать её рабом? Я не хочу ловить пациентов, ублажать параноиков, что они здоровы, врать больным, хотя сам сомневаюсь в диагнозе, волноваться за доходы, потому что надо содержать практику, сотрудников, семейство, машину для выезда, общаться с коллегами ради престижа, ездить на Багамы или Майорку, потому что так положено, отчислять на бедных, хотя государство тратит на военное дерьмо столько, что вынуждено скрывать это… Я не хочу, не хочу брать на себя ответственность за чужую жизнь, когда сам ни в чём не уверен, и думать о том, что будет. Моя работа – это сиюсекундный результат! Я хочу видеть, что помог человеку сейчас, а не думать, проявится то, от чего спасаю, или не помогло ничего… я хочу получать удовлетворение от своего труда сразу, тут же, на месте, как слесарь, который запустил мёртвый мотор. Он всегда запускает самый мёртвый мотор! И я хочу, чтобы мой укол помог сразу, чтобы мой массаж снял боль, а сухой памперс вместо мокрого доставил удовольствие больному хоть на секунду и у него разгладились бы борозды на лбу! Я не хочу брать на себя ответственность диагноза, потому что они, как правило, основаны на интуиции… и все анализы хорошие, и во всех дырках человеческих всё в порядке, а ему больно, и он не спит, и думает о самом плохом, и не может себя заставить переключиться… А я прихожу к нему ангелом-спасителем, делаю укол, ставлю капельницу, даю таблетку, принимаю часть его страдания на себя, а врач – тот далеко и не видит, как это всё происходит, – только результат… он может воспользоваться моими глазами, руками, душой… Он лечит и вылечивает… или сдаётся, а я всегда помогаю – до самой последней секунды, до последнего вздоха… я нурс – нянька, сиделка, кормилец, медбрат… я тот, кто с детства с нами со всеми! Мать уходит на работу, в кино, на вечеринку, а нянька с дитём, врач уходит отдыхать, а с больным остаётся сиделка, которая каждую секунду рядом! Красная лампочка вспыхнула – и я тут как тут. Я меняю, колю, кормлю, утешаю, сажаю на комод, вожу в душ, катаю на каталке, переодеваю… я всё! И мне это доставляет радость и удовлетворение… потому что я белая ворона! Сегодня Рэйчел, эта корова, сказала мне: «Зачем ты так возишься с этой, она всё равно не вытянет?», а кто-то проходил мимо, и ей показалось, что услышал её слова, теперь она трясётся, что стукнул менеджеру или дежурному врачу тут же. А она тупая корова, она по обязанности – сестра-сиделка, и не ей ставить диагнозы! Вот она точно будет делать карьеру. Ей можно и стоит, а мне не надо делать карьеру и терять на это годы, а потом дрожать за свой престиж, свой офис, свою практику… я не хочу… мне ведь хватает денег на всё, что мне надо. Или ты считаешь, что это нехорошо: стоять на месте, не совершенствоваться, не пытаться стать генералом? Да и то, если я женюсь на тебе, какая это будет неравная пара! Ты же делаешь карьеру и скоро вообще вырвешься в топ-менеджеры, а я задрипанный нурс – это не годится. А я не хочу, чтобы государство, в котором такое общество образовалось, выпотрошило мою душу с помощью своего вранья о равных возможностях для всех и необходимости учиться и совершенствоваться, чтобы укреплять своё положение и свою страну… ну, что? Молчишь? Ты не всегда молчишь… копишь силы, чтобы пойти в атаку! Не копи… ты сама белая ворона. Да, да, поэтому мы вместе… ты приехала делать карьеру и… влюбилась! Зачем? Это не входило в твои планы, и теперь сама мучаешься и меня хочешь увлечь. Разве тебе плохо или мне плохо?.. Что, надо потратить кругленькую сумму – мой двухгодичный заработок на свадьбу, чтобы все знали, как мы живём, и два месяца трепались об этом? А потом… и тебе нужен брачный контракт? Ещё не успели медовый месяц погулять на Коста-Браве, а уже думать должны, как оно будет всё делиться при разводе?! Нет. Дудки. Не будет брачного контракта. Это топ-менеджеру надо думать до головной боли, как прочнее сесть в кресло, а для меня работа везде, в любом конце страны – и на Западе, и на Восточном побережье, а если тесно – то в любой стране годится нурс с моим послужным списком… не хочу жениться…
Вот хорошо, что буран нас от всего и всех отрезал. Даже телефон молчит, будто и волны засыпало, – все понимают, что никто никуда сегодня не тронется…
Кончай, Деби, терзать меня. Две белые вороны понять друг друга ещё кое-как могут, но в стаю белую ворону не пускают её ближайшие сородичи, и сколько ни крась перья, видно подпушку, а она неподобающего цвета, и тогда эту ворону рано или поздно начинают клевать и заклюют обязательно…
Казалось, у всех этих людей не было общего прошлого – общения, воспоминаний, встреч, разговоров… но общее будущее у них было обязательно! Даже если бы они больше никогда не увиделись, событие, которое они пережили, осталось в каждом из них и не могло исчезнуть из памяти. Оно могло обрасти подробностями, у каждого своими, которые появятся обязательно из глубины души от переживаний и своего понимания происходящего, но само событие у них навсегда. Можно сменить ботинки, костюм… кожа человеческая медленно отмирает и заменяется новой, печень обновляется раз в семь лет – всё требует замены для жизни по мере её протекания, но есть такие веховые события, когда человек стоит перед пропастью и у него только две возможности без права выбора, а по воле судьбы: сверзнуться в бездну небытия или быть подхваченным ангелами и перенесенным на противопложный край бездны. Они не задумывались об этом, но это невольно присутствовало в их существовании и общении. Они были связаны болезнью, чужой болью, спаяны неотделимо и не могли пережить ни в каком варианте её по отдельности. И надежда, и доверие, с которыми они воспринимали, каждый по-своему, другого, будут главными чувствами до тех пор, пока шаги времени не разведут их… Эта рота, созданная волей судьбы для общего дела, вступила в борьбу с недугом, и каждый был в ней незаменим и ценен для борьбы, а цену эту можно было ощутить и определить только в ходе борьбы…
Боль была невыносимая, оглушающая боль. И чтобы вытерпеть её – не кричать, не рваться с места, как будто от неё можно убежать, она тихо уговаривала себя: «Это спасающая боль, если бы её не было, я бы умирала тихо и беззаботно и ничего бы не знала. А так – меня спасут, непременно спасут…» – и ей становилось легче, потому что она верила, что не напрасно страдает, что это боль во спасение, и другие знают, как ей больно, и непременно помогут. Потом, когда она лежала на каталке, вся опутанная проводами, под тёплыми одеялами, которые меняли, как только холод одолевал то, что они накопили, подплывала тёплая сиделка без шеи и без талии в белом хрустящем халате, она ловко заменяла жёстко накрахмаленные остывшие покрывала-одеяла на тёплые, только что вынутые из шкафа, похожего на холодильник, где они набирались тепла. И меняла она их так быстро и ловко, что прохладный воздух не успевал даже щипнуть Эмму за ставшую сверхчувствительной кожу. А холодно казалось ещё и оттого, что она в полузабытье видела, как перевозка продирается сквозь метель, слегка вздрагивает на застругах снега на дороге и как ветер ударяет горстями льдистых снежинок в стёкла машины. Это отвлекало её от боли, Рождество окутывало детством, праздником, весёлой суетой, особым запахом веселья, пастельными нерезкими запахами от разложенных на стульях и диванах нарядов, смолистым ароматом хвои и горячего пирога… При очередном толчке она вдруг будто натыкалась на иглу боли и на мгновение проваливалась куда-то, где боль настолько сильна, что сквозь неё ничего не может пробиться…
Рядом возникало лицо Фортунатова с полузакрытыми глазами и безвольно качающейся головой. Она начинала его жалеть за бессонные ночи, которыми он сидел над ней, пока не образовалось мнение, что с ней, и не возникла перевозка, приготовленная операционная, которая ждала её, и надежда, что сегодня всё кончится в Рождество – волшебный день! Так или иначе, но кончится – всякое же бывает, и доктора ошибаются, и когда начинают копаться в живых ещё внутренностях, вдруг обнаруживают, что ничего уже сделать нельзя и лишь напрасно больному добавили муки к предыдущим сверх лимита, что эти новые перевалят её за черту терпения, и всё закончится: она перестанет что-либо чувствовать, а они – надеяться, что она сможет жить без боли и свирепого оскаленного ожидания её.
Эта привычка, что он всегда рядом и необходим ей безо всяких объяснений, не как обычно говорят – «как воздух» или что-то в этом роде, а просто необходим, и всё! Ну, например, как её собственное тело, в котором сейчас эта боль. Это рассуждение текло в её мозгу бегущей строкой независимо от всего остального происходящего: суеты вокруг её тела, проводов, щекочущих кожу, из чего она заключала, что ещё не всё потеряно, раз чувствует такое лёгкое касание, самого Фортунатова, которому разрешено быть рядом с ней, пока не увезут за стеклянные двери операционной, и он всё время мечется, чтобы не мешать этим людям, прикрепляющим к ней провода, сиделке, меняющей покрывала, сестре, которая входит и выходит, входит и выходит после того, как посмотрит в окно, и напряжение на лице этой женщины говорит ясно, что всё идёт не как рассчитано, что метель лишняя, что операция может сорваться, если доктор не прорвётся сквозь стену снега, что праздник испорчен, если даже и состоится, потому что отойти от такого долгого напряжения быстро не удастся, а день короток, и самой тоже надо пробиваться через эту снежную стену домой, а удастся ли, неизвестно всё, всё вопрос и тревога, и больше никогда она не согласится назначать операцию в Рождество! Никогда.
Очевидно, существует предел. Запас боли, терпения, времени, надежды, сил тела… она независимо ни от чего преодолела его и перешла в осязаемое небытие: всё слышала и видела, что происходит вокруг и даже внутри неё самой, но уже существовала в новом качестве и в новом измерении. Это её погружение было точно зеркально утреннему пробуждению после тяжёлой ночи, когда в момент перехода к бодрствованию ещё не понимаешь, где ты, что происходит, день или ночь за окном, где ты в этот миг и что с тобой. То, что Фортунатов рядом, было самым главным! Его голова, горячее тело, необыкновенные руки, которые она всегда ощущала на себе, если даже он был не рядом, и всё равно, как далеко и в каком настроении. Они были на ней – держали её, гладили, ласкали, и она готова и рада была всегда и всё только с ними – не взгляды, не губы, а руки, которые умели разговаривать, понимать и делать… О, они всё умели делать – ну, всё! Всё, что необходимо и вообще возможно в жизни: думать, писать, чинить, ласкать, разговаривать, сердиться, радоваться и даже быть частью другого тела – она была уверена, что его руки – только её, её тела! Очень важной частью, и поэтому, если их по какой-то причине не было или ей казалось, что нет, жизнь без всякой боли просто заканчивалась, как плёнка в кинопроекторе, и конец этой плёнки или жизни хлестал впустую воздух и щёлкал всё окружающее, то ли наказывая, то ли предсмертно угасая… Но с тех пор как она ощущала себя, Фортунатов был всегда рядом, и руки его не принадлежали ей, а были её очень важной или самой важной частью… Она никогда не говорила ему об этом, может быть, даже просто потому, что не смогла бы словами хоть приблизительно выразить всё это, а ещё и потому, что он сам говорил ей о её руках такие слова и так точно, что она уже и произнести ничего не могла, потому что не оставалось пространства в диалоге, как только повторять за ним слог в слог и в той же тональности то, что он уже сказал! А зачем это…
В молодости, когда она в метели и смертельной стуже повредила лодыжку и не могла ступить, он нёс её на руках через лес долго и трудно, и каждый раз, когда оступался в глубоком снегу, а потом подбрасывал её тело, чтобы она могла повыше прислониться к его груди и плотнее обхватить его шею, она так радовалась неожиданно для себя, что может долго и нежно обнимать его и утыкаться холодным носом в его щеку, шею, вязаную шапку, сползшую на ухо, и благодарила боль, не дающую опереться на ногу, что столько любви, накопившейся за совместную пусть ещё недолгую жизнь, и столько нежности могла вливать в него, и этот непрерывный ручей соединял их куда крепче всяких слов, клятв, а они и не клялись никогда друг другу… А что вообще может объединить людей сильнее этого потока, когда непонятно в какую сторону он направлен, от кого к кому, откуда куда?! Это же ни измерить, ни увидеть, ни определить – это общий поток какого-то внутреннего эфира, легко уязвимый, трепетный, но неимоверной силы, как магнитные волны, которые держат планету или сдвигают её с оси на общую погибель…
Сколько времени протекло, она не могла представить, а если бы спросила и получила ответ, не смогла бы соотнести с происходящим – боль была другая, свет дневной, но с потолка – окон вообще не было. Была сиделка с колышущимся моржиным телом под белым халатом, тихое жужжание дросселей, щёлк в мониторе на штанге, пониже нависающих над ним прозрачных пакетов, капельницы, и… сидящий рядом с каталкой Фотунатов – остальное не важно. Веки снова сомкнулись.
Они сидели рядом на ступеньках. Какая-то птица тенькала одно и то же, будто ученик, у которого не получается пассаж на флейте, и он снова повторяет его, чтобы играть, не сбиваясь.
– Ты боялся, что я стану неподвижной?
– Нет. Я знал, что всё будет хорошо.
– Знал?
– Знал.
– Как это?
– У беды свой запах. Его не было.
– Ты в это веришь?
– Кто однажды пережил такое, особенно в детстве, не может забыть! Даже не так: остаётся рубец. Когда беда близко, он вгонят в тело штырь тревоги, когда она рядом – он воспаляется и болит сильнее, чем у того, за кого ты болеешь! Это общая боль, и разделить её невозможно. Она остаётся ещё одним рубцом, и так всегда. Боль свивает два в одно, а то, что остаётся помимо неё, – лишнее.
– А если со мной бы случилось это?
– Зачем? Я же сказал тебе, что не могло случиться. Я был рядом. Она бы сначала ударила меня…
И они почувствовали вдруг, что одновременно вспомнили: как он поднял её с каталки, гипсовый воротник краем упирался в его ключицу, ему было очень больно, но он не встряхнул её, чтобы она оказалась повыше, как тогда в буране. Ступени и двор были расчищены от снега до серой плитки, бок машины был наизготове с открытой дверцей.
Он не сказал ей, что у него с того дня полгода назад, когда Нордстрём вышел, потупившись, после операции и открыл ему правду, что-то так ёкнуло с левой стороны и ударило в бок чуть пониже сердца, что он задохнулся, и с тех пор эта боль не проходила. Он привык к ней и уже не мог представить того времени, когда её не было. Теперь же, когда от быстрой ходьбы она становилась главной и уже руководила им, запах, которого не было в тот день, теперь преследовал его постоянно.
Она тоже не сказала ему, что, когда что-то оторвало её от мира, в котором существовала, одна ниточка всё же соединяла её, как пуповина, с ним, с их общей болью. Не сказала потому, что это можно только пережить – не описать, не вычислить, не открыть и доказать научно, не, войдя в чужое тело, увидеть и направить – можно только самой догадываться, что это есть, и невозможно определить, когда появилось и куда удалилось. Но именно это одно могло удержать руки хирурга в тех пределах, за которые нельзя было выходить, и их сдерживали проволочки, стрелки и лампочки. Лишь одно это эфемерное, непредсказуемое, как полёт мотылька, движение было тем, что спасает и возвращает в свет, который погас на час, два, три… чтобы руки вернули времени сущность жизни, и они делали это сторожко, необъяснимо точно и потому уверенно, чтобы ниточка эта не оборвалась, а сшивала, свивала в одну две боли, непохожие, невероятные и необходимые…
Да, она не сказала ему, что знает это: правду, которую доктор открыл только ему, боль, которая была только у него, запах, который не оставлял её теперь тоже ни на секунду. И ещё она не сказала ему, что настоящее счастье пришло к ней именно в тот момент, когда она открыла глаза, вернулась в мир и вошла в его боль, когда они уезжали домой вместе, и что никакими словами, звуками и красками выразить это невозможно.
Вот эти две не сказанные друг другу известные им правды были самым главным с того дня в их жизни, ставшей одной на двоих.
Через десять дней в обжигавшее солнцем утро в сверкающем чистотой и острыми углами офисе по разные стороны стола сидели Нордстрём и Эмма.
– Вы совсем не смотрите на меня, простите, уткнулись в свой компьютер и свои снимки…
– А зачем мне? Это ваши (!) снимки. Всё, что у вас поменялось в теле, – моя работа, а что внутри, во многом от вас зависит. Организм всегда сопротивляется любому вмешательству, он хочет быть таким, каким его сделали папа с мамой по божьему велению.
– Вот как?
– Да! И невозможно порой преодолеть этот рубеж… я вот, например, очень хотел бы быть похожим на героев Ремарка…
– Ремарка? – Эмма даже чуть приподнялась со стула. – Что это значит?
– У него во всех романах и французы, и немцы, и евреи… пьют и едят в любое время суток! Иногда мне неодолимо хочется тоже так! Даже бывает необходимо… и мужчины и женщины…
– И что вам мешает хотя бы попробовать?