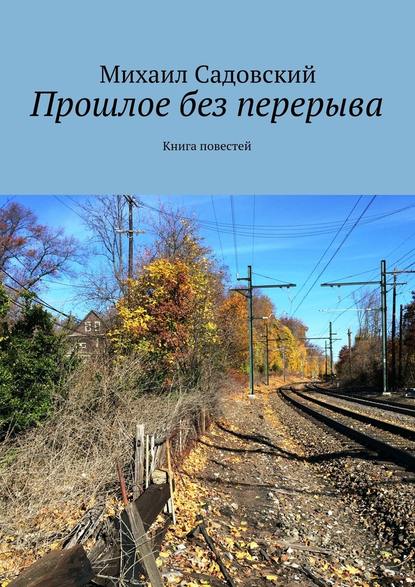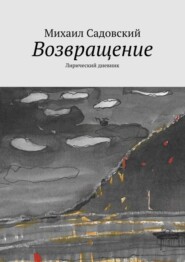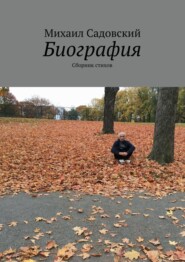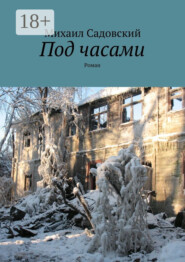По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прошлое без перерыва. Книга повестей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это ещё не сформулировано на бумаге. Но письмо такое непременно появится. И сердце у пишущего не дрогнет – что он, первый такой что ли, Вася?
А пока Трындычиха, здоровенная толстозадая баба лет сорока, будет с наслаждением тыкать мальчишку искажённым природой личиком в мокрую простыню и тащить за руку в старый сырой с чугунным бачком высоко наверху туалет, которым никто не пользуется, чтобы провинившийся, насидевшись в тусклом свете и спёртом воздухе, осознал всю тяжесть своего очередного проступка.
Пока он был маленьким не так бросалось в глаза его сплюснутое с двух сторон лицо, ассиметричные глаза и как-то брезгливо-нелепо чуть-чуть приподнятая верхняя губа. Но потом отклонение всё сильнее стало проявляться, и если бы не Нинка… Вася безобидный, а Нина так трогательно берёт его за руку и ведёт за собой, что любое сердце вздрогнет от мысли разорвать их. Ни от кого ему больше тепла не достанется в жизни. Никогда… Зато Вася на полголовы выше сестры, и когда кто-нибудь захочет её обидеть, ещё подумает, стоит ли.
Теперь такая жизнь пошла странная, игрушки совсем иные, телевизор цветной, и куклы другие. А в их доме всё чаще появляются какие-то люди, а потом кто-нибудь из мальчишек или девчонок уезжает с ними, и Вася с Ниной тогда уходят далеко в уголок двора, садятся там на сырую лагу старого забора и молчат. Они знают уже, что это Бабушка и Дедушка нашли своего Колобка, а их никто не находит. Вася ведь не дурачок, он заторможенный просто, а Нина его любит. Очень. Потому что он брат. Добрый, и на неё похож. Только лицо у него немного сплюснуто. Но он поправится, когда щёки потолстеют, и все увидят, что он очень красивый. И столько сказок знает! Он их сам придумывает и всегда добавляет чего-нибудь новенького. А что если, как Колобок, уйти из дома и покатиться по дорожке, и, может быть, тогда их начнут искать и станут спрашивать: «Чьи это? Чьи это дети?» Тогда вдруг объявятся Бабушка с Дедушкой. У всех ведь были Бабушка с Дедушкой. Просто все потерялись однажды, и теперь главное найтись. А их дом далеко стоит, в стороне от всех домов городка, за рощей. И зимой там не пройти, столько снега наметает, а весной ноги из глины не вытянешь, а до станции совсем далеко – через рощу, поле и весь город.
– Вась, а когда вырастем, ты мне новое платье, купишь? – Нина держит его за руку и пристально смотрит сбоку.
– Я работать буду, как папка, – неожиданно быстро откликается брат. – Шофёром.
– Откуда ты знаешь? – Нина разворачивается к Васе и придвигает своё лицо к нему так близко, что тот отклоняется назад.
– Знаю!
– Откуда? – не унимается сестра.
– Слышал.
– Что слышал?
Но Вася уже ушёл в себя и опустил глаза.
– Что слышал? – трясёт его Нина.
Она чувствует, что сейчас заплачет, потому что раньше никто никогда не говорил про их отца. Значит, он есть?!
– Слышал, как Трындычиха говорила: «Вот нашоферил двух поганцев! И поминай, как звали».
Нина уже тихо плачет и Вася, чтобы успокоить её, гладит по прикрытой бумазеевым платьем коленке и бормочет тихо-тихо:
– Я слышал, правда, слышал…
Вода камень точит…
Трындычиха стояла на широко расставленных ногах, чулки в резиночку буквально лопались от натуги на толстых икрах. Разъярённая и мощная, она заполнила кабинет и вдавила директора в кресло по ту сторону стола.
– Ты, Наталья Ивановна, не смотри, что я воспитательница простая! Што я хуже твоих образованных?! Я тебе так скажу: этот Кучин, Васька, значит, на детей влияет плохо. А запах какой! Ты не смотри, кто я, а слушай: его удалять надо, – с Трындычихой никто не связывается, она кого хочешь из себя выведет, и поддержка у неё мощная, как она сама. Говорят, её зад очень Алексееву приглянулся, а у него большая сила в их городочке. – Ты бы куда надо-то позвонила, что мы не знаем, как делается. Там бы бумажку написали с диагнозом, а у нас бы чище стало. Это, что ж, мы сучьих щенков холить будем!
Злая она, Трындычиха, а против злости что поставишь? И детей не любит. Своих нет, тоже, может, от злости, или от того, что себя сильно любит.
Наталья Ивановна смотрит в закрытую дверь: «Вот ведь прозвали! Точней и не придумаешь – Трындычиха! В телевизоре поймали, что ли? Ну что я скажу ему?» – перескакивает её мысль, и она представляет сухое со впалыми глазами лицо Сиротенко. От него в крае усыновление зависит, с тех пор как стал депутатом. «У него и фамилия такая. Может, сам в детдоме вырос, незнамо чейный, оттуда и фамилия. – К нему ж не подступишься. И Ваську жалко. А Нина…» – она чувствует, как начинает ломить голову сначала в висках, потом выше, выше к макушке, и боль сползает к затылку, застревает там и нависает над шеей.
Три года она здесь, а как жизнь переменилась! Что она скажет ему: «Бумага всё терпит? Нет уж, лучше Трындычиху терпеть. Сколько получится… Наверное, она на моё место метит, больно уж агрессивная стала последнее время… Теперь всё просто – и диплом купит, и Алексеева сломает, с таким-то телом… А мальчишка… ему везде плохо… кто на него глаз положит… А так Нинка, может, ещё и приглянется кому».
Огромная страна лежала в тумане. На западе циклоны наплывали один за другим из Атлантики через Балтику. На востоке налетали остатки цунами, а между ними с севера спускался лютый холод, наполняя воздух невидимыми в одиночку кристалликами, создававшими ледяную завесу всему сущему от любого, прижмуренного на резком морозном воздухе, глаза.
Солнце будто и не светило в этом десятитысячекилометровом коридоре, шириной от Северного полюса до Туркменских пустынь. Оно обходило его стороной и сияло на юге, где от него лица менее угрюмы, глаза всегда хитро прищурены и кожа смугла и туго натянута.
Сиротенко сидел в кресле и бессмысленно смотрел на сгущающуюся к вечеру серость изморози.
«Трудно, невероятно трудно дождаться следующего солнечного дня. Может быть, через неделю, может, через месяц. Зарыться с головой в постель, уйти, отключиться и не вспоминать, не вспоминать. А мысли именно и одолевают в такую пору! Им лишь маленький толчок, ничтожный повод, слово! Одно слово, звонок, название. Детский дом… И сразу наваливается всё прошлое, накатывает безудержно, как лавина, и никакая преграда не в состоянии сдержать это низвержение на тебя… А там, под толщей, засыпавшей и распластавшей тело и душу, бесполезно шевелиться – не сможешь, бесполезно звать на помощь – не услышат, бесполезно стараться даже думать о другом – не получится».
И почему это судьба устраивает?! Зачем? Если сам вырос в детском доме и вспоминаешь его не как страшный сон, а как страшную быль? Как один чёрный коридор, по которому ты идёшь не на еле желтеющий вдалеке свет, а во всё более сгущающуюся темноту с единственным желанием, чтобы она скорее тебя поглотила навсегда и избавила от постоянного унижения, от непосильных душевных мук, перед которыми даже непреходящий голод и вечные побои – ничто! «Змеёныш! Сын врага народа!» Они говорили, что яблоко от яблони недалеко падает, и были правы! Они всегда и во всём были правы! Кто? Они! Взрослые! Власть! И он ненавидел эту власть так сильно, что в любую секунду задыхался от ярости при соприкосновении с самым ничтожным её проявлением – вывеской, ступенькой, дверью.
Он ненавидел её с самого того дня, когда перестал по-детски, по-октябрятски любить… Вернее, с самой той ночи, когда забрали отца. Мать взяли через два месяца. А его не успела увезти тётка от вездесущих энкавэдэшных глаз, и «змеёныша» сволокли в детский дом, потому что он сопротивлялся, кусался, орал – словно знал, что его ожидает.
Там он постепенно стал ненавидеть всех: директора, воспитателей, «контингент», т.е. своих однокашников, тоже попавших в беду. И растил это сжигающее чувство со своих семи до шестнадцати лет, когда его выкинули на свободу.
Это случилось сразу после смерти Вождя. Мать не вернулась, и никто не знал, где поплакать над ней. Отец очень скоро оказался дома и умер через два года, но за эти два года успел добавить столько к посеянному в душе мальчишки чувству, что всю оставшуюся жизнь Сиротенко не мог совладать с ним.
«Ты, Ванька, никому им не верь, – отец неопределённо обводил рукой круг, – они все бляди! Ни одному слову не верь! И дела никогда с ними не имей! Они не люди – так… шваль двуногая! И помяни моё слово: погибнут от своего же семени – наплодили Павликов Морозовых и ненависть в народ уронили!»
Отец однажды просто не проснулся. От него остались сапоги, новенькая телогрейка – носи и носи – и, главное, комната. Если бы не жилплощадь, не выжил бы Сиротенко. Не состоялся. Сгнил бы где-нибудь в лагере или на воровской малине, как многие его товарищи, выпущенные в белый свет на верную погибель. А он выжил и распрямился, и поднялся. И каждый раз, когда думал об этом, вспоминал единственного человека, которому, как выходило, был обязан всем этим, потому что дал ему в душе клятву – вроде мальчишескую, смешную, непроизносимую вслух, и оказавшуюся тем посохом, который поддерживал его в трудную секунду, когда дорога уходила из-под ног. А поклялся он Абраму Матвеичу, врачу в санчасти №3, что если выживет, непременно станет врачом, и сам тогда отплатит за всё добро, что от него получил, другим таким же бесприютным и обиженным, каким был сам. Такая вот, ни к чему не обязывающая клятва, о которой никто не знал. Никто.
Но Сиротенко, чем старше становился, тем серьёзнее к ней относился и, наконец, решил, что если не выполнит её – незачем ему жить на свете! И чем сложнее ему становилось с годами пробиваться из глухой провинции, из тьмы невежества и жестокости к своей цели, тем больше он ненавидел всех, кто мешал ему, а более – недодал в детстве. Даже фамилию настоящую у него украл, изуродовал его душу, исполосовал спину, истощил в самом начале пути запас детскости, который только и спас многих, живших в те же годы, но кому больше повезло.
Звонок Ирины Васильевны из «третьего дома» отбросил его в память, далеко назад, и он с усмешкой вспоминал, какие диагнозы вписывал Абрам Матвеич в его дело, чтобы вырвать к себе в «стацьёнарь» и уложить на койку недели на две, а то и на три. Это были самые счастливые дни его детства! Самые тихие, сытные, книжные, пропахшие карболкой и хлором. Другие не выносят эти запахи – запахи больницы, а для него – они самые желанные, приводящие в сегодня неведомым путём из далёкого далека самое светлое, что было в его жизни!
«Ша унд рюигх!» – тихо говорил Абрам Матвеич, прикладывая толстенький короткий палец к губам, а второй рукой подталкивая его в спину к койке. И когда мальчишка садился на скрипучую проваленную металлическую сетку, наклонялся к его лицу и выдыхал: «Обгемахт! Форштейст?!» И уходил, не стирая улыбки.
Это он, доктор Абрам Герпель, уложил его с диагнозом «острая дистрофия», когда шарили по всем детским домам, приютам и детприёмникам чтобы набрать положенную норму для специального детского дома, в котором содержали детей с умственными и физическим отклонениями, чтобы они не мешали остальным, во-первых, а во-вторых, для создания им «особых условий», от которых мало кто оставался в живых…
Что говорить! Если бы не он, так бы и замёрз Ванька на покрытом ледяной коркой глиняном дворе, к которому примёрзли кучи дерьма с застывшими в них белыми червями, когда всему детскому дому гнали глистов сантанином, а дети не могли присесть на очко, потому что все места были заняты. Это ж именно ему, Ваньке Сиротенко, директор поручил назавтра убирать двор: «Срезай эту нечисть, как мы всех врагов народа уничтожаем!» И Ваньку рвало так, что казалось, все кишки через горло вылезут наружу, и зеленоватая жижа, выпузыривавшаяся из него, застывала новым слоем над чужой белой.
И как он только угадывал, этот маленький доктор с одутловатым лицом, что Ванька Сиротенко дошёл до точки и, если его не забрать для передышки, хоть на недельку, то натворит он дел, натворит…
Не знал Ванька этого. Вообще ничего не знал про доктора, но более всего, его занимало, почему доктор с ним возится, даже, можно сказать, любит… Один и любит на весь белый свет…
Конечно, Ирина Васильевна ничего этого и знать не могла, когда первый раз обратилась к нему – Сиротенко – с просьбой помочь её воспитаннику. Бумага, о, бумага! Она всё стерпит. И диагноз вытерпит такой, какой человек не вытерпит. Она не загнётся, а человек оживёт…
Волоскова первый раз пришла к нему наугад, по слухам, и, конечно, не поняла, почему так легко всё получилось. Ведь с таким диагнозом никто из «своих», местных, российских усыновлять ребёнка не будет. А постановление, которое приняли, обязательно для всех домов ребёнка и детских домов страны: иностранцам можно отдавать на усыновление только больных детей. У них там медицина первоклассная, и деньги, и условия… Да только надо так умно славировать, чтоб и иностранца диагнозом не отпугнуть.
Конечно, она не могла знать, что всё, что написал тогда на медицинской карте ребёнка Сиротенко, состояло из тех же слов и букв, что его никому неизвестная клятва. И ещё она не знала, что совесть в этот момент мучает Сиротенко не из-за медицинского диагноза, а совсем по другому поводу: он размышлял о том, как хитро устроена жизнь, что сам он теперь принадлежит к власти, которую с детства ненавидит! Любую! Разве что изменилось? Стал тем, что всю жизнь ненавидит. Вот ведь в чём беда!
Он сам теперь решает человеческую судьбу – вот этой писулькой, вот этой подписью! И в этот момент толстые губы Абрам Матвеича совершенно отчётливо произносят ему в лицо «Обгемахт! Форштейст» И он, чувствуя, как горячая спина прилипает к рубашке, отвечает ему: «Обгемахт!»
Звонок Семёна означал, что он нашёл клиента и теперь подбирает ему ребёнка – обязательно мальчишку. По всему выходило, что Пашка самым подходящим будет.
Она Пашку любила. У неё за всех «своих» душа болела, но он чем-то больше других тронул её сердце. Любимчиков в детском доме заводить нельзя ни в коем случае, Ирина Васильевна это с детства знала, от этого таких проблем нарастёт – не будешь знать, как выпутаться! Но сердцу не прикажешь, а глаза сами его в комнате находят, и чуть дольше на нём взгляд задерживается… Может, потому что сама она тоже о сыне мечтала, да так вышло, что не смогла себе позволить ещё одного. Иногда мелькала у неё мысль: «А не забрать ли себе его?» Но никак это не получалось, поздно уж, кто его растить будет? Да и из своего детдома брать никак не нельзя – для остальных это такой удар, такая травма, на всю жизнь… Можно, конечно, его до конца здесь держать, под своим крылом, и опекать, и учиться заставлять, побольше внимания уделять, а потом, когда настанет время ему вступать на самостоятельный путь, забрать к себе… Да захочет ли? И что с ней тогда будет? Такое время настало, что лучше про завтра не загадывать… «Будет день – будет пища!» – повторяла ей мать частенько из Священного писания, и только с годами осознала она всю мудрость и слов этих, и жизненных установок своей семьи во времена, когда по ночам исчезали люди навсегда, а ярлыки на шее весили так много, что сгибали человека в три погибели, и втыкался он навсегда головой в землю.
«Если б кому из местных или знакомых отдать? Да кто здесь захочет, в их глуши? А не найдётся никто – одна у него дорога: со сменой белья да несколькими сотнями в кармане из одного казённого дома да в другой. Там зэки обучат. До конца жизни. А жизнь вся: от одной отсидки до другой… Он мягкий – устоять не сможет… Хорошо, что Семён позвонил… Он не спешит, основательно всё готовит, а когда созрело – подсекает… И не скаредничает, всех оделит… У нас без этого никак! – она вздохнула и остановилась в раздумье. – Надо у него обувки для ребят попросить снова из фонда этой сумасшедшей бабы американской, что померла, а всё своё состояние миллионное завещала только на обувку детям-сиротам… Сумасшедшая, сумасшедшая, а повезло, считай! Там такие деньжищи, что во всём мире всех сирот обуть можно! – мысли её бежали, перекрещиваясь, перескакивая со своего личного, на детский дом, на Семёна, да и вряд ли могла она отделить теперь свою жизнь от всего, что окружало её на работе с утра до вечера, и тревожило, и не давало спать по ночам. – Настя уж заневестилась, впору мне внуков иметь. Бросить всё и сидеть их нянчить… В такие времена только глаз да глаз за ними, чтоб в сторону не ушли, с колеи не сбились… Да и где она, колея эта? А уйти на покой, кто кормить будет? На пенсию подыхать? Нет уж…»
Ирина Васильевна вдруг резко поддёрнула рукав, посмотрела на часы и направилась к телефону-автомату. Она на память набрала номер и терпеливо пережидала длинные гудки. Наконец, когда уже решила повесить трубку, там прозвучало сквозь треск и шорохи: «Сиротенко слушает…»
– Иван Михалыч! Вы никак уходить собрались?! Жаль!.. – сказала она вместо приветствия.
– Ирина Васильевна, вы, что ли? – отозвалась трубка.
Другие электронные книги автора Михаил Садовский
Другие аудиокниги автора Михаил Садовский
Бяша




 4.5
4.5