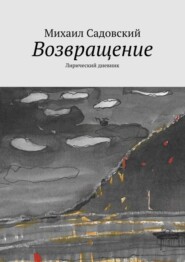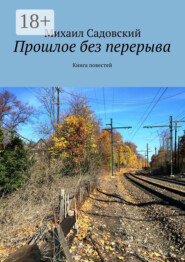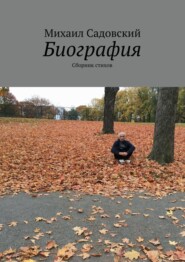По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пока не поздно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока не поздно
Михаил Садовский
Книга прозы известного писателя Михаила Садовского «Пока не поздно» состоит из трёх произведений, не связанных сюжетом, но есть две важные вещи, которые их объединяют. Они повествуют о жизни в стране в один и тот же период её истории, и автор, написавший их, сам прожил это время с теми, о ком рассказывает, в той самой своей стране, называвшейся Советский Союз. Книга повествует о жизни 40—90-х годов двадцатого века – времени глобальных перемен.
Пока не поздно
Михаил Садовский
© Михаил Садовский, 2017
ISBN 978-5-4490-0835-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Уважаемые читатели!
В этой книге три совершенно разных произведения, никак не связанные сюжетом, но есть две важные вещи, которые их объединяют. Они повествуют о жизни в стране в один и тот же период её истории, и автор, написавший их, сам прожил это время с теми, о ком рассказывает, в той самой своей стране, называвшейся Советский Союз.
Реалии на переломе истории меняются с такой скоростью, что в течение жизни одного поколения – а это, по признанию, учёных всего два десятилетия – происходят перемены столь серьезные, что следующее поколение с трудом понимает, или вовсе не может понять, как это было до их рождения, во времена, когда их родители были молодыми. Прожитое сегодня стремительно становится историей, в ней остаются глобальные события, а детали и мотивы поступков исчезают бесследно. Удивляют фотографии, «отсталая» техника на них, странная мода, непривычные выражения лиц…
Автору кажется, что книги, написанные сегодня, тоже становятся историей, не многие из них останутся чтением нового поколения. Но любопытный вернётся к ним, чтобы понять прошлое – не то глобальное, о котором напишут в учебниках и будут трактовать его ещё, может быть, в течение многих поколений, но со временем всё меньше и меньше места останется этим прошедшим годам. Открыв же книгу несколько десятилетий назад написанную, можно будет представить себе не только глобальные перемены, но то, как люди жили и как воспринимали происходящее…
Автору кажется, что заслуга литературы в её летописности, это не специально написанная летопись, в которой, кстати, легко можно в совершенно искажённом свете показывать события и их восприятие теми, кто жил тогда и теми, кто читает по прошествии времени, а то, что неизменно останется – как ели, что надевали, на чём ездили, как говорили и о чём спорили, что волновало, что заботило, о чём мечтали, чего ждали, и что категорически не принимали, как любили и что ненавидели…
Да, автор пережил эти годы: страдал, радовался, добивался, проваливался, отчаивался и поднимался вновь, чтобы жить. Однако не надо представлять, что герой повествования – сам автор. В этой книге ни один из персонажей не списан с натуры, и в тоже время, ни один из них не является плодом фантазии или выдумки автора. Это всё реальные люди, всё в этой книге подмечено, собрано и представлено читателю на его суд, для его памяти и знания.
Благодарю вас, что вы открыли эту книгу. Люди молодые познакомятся со своим прошлым, люди, жившие в годы, о которых повествуется, могут поделиться друг с другом тем, как «было у нас» – это драгоценные дополнения и ответы на вопросы несведущих.
Если будет так – книга не оставила вас равнодушными, а это самая большая радость для автора.
Желаю вам интересного чтения.
Кто ты, кто я
(повесть)
Кто ты, зверь, стоящий на краю белого поля в поиске добычи? От него никакого запаха, ни следа на нём. Далеко голубизна неба сгущается, опускается и становится синей до черноты полоской, обрамляющей его, – это воспоминания. Их сдуло туда ветром времени, и они стали горизонтом, а позади тебя ничего – пропасть. Отступил шаг назад – и провалился навсегда, и не будет тебя в той полоске на горизонте, на той дальней окраине поля жизни. Ты стремишься в это поле за добычей, и за тобой не остаётся ни следа, а ты всё идёшь и идёшь к тому дальнему краю. Зачем? Что тебе в том пацанёнке в коротеньком пальтишке, перетянутом верёвкой, и в ушанке не по размеру, слезшей на глаза? По реке идёт лёд. Вся деревня от мала до велика вытянулась на берег и смотрит с высоты на это чудо. Картины меняются каждую секунду, и невозможно удержать их в памяти. Вот огромная льдина с вдавленными в неё колеями дороги и пешнями по бокам её степенно проплывает мимо, и все мелкие осколки ледяного поля, встречающиеся ей на пути, вскакивают вдруг, вытягиваются вверх, будто по стойке смирно, и отдают честь. А она степенно и равнодушно уносит с собой дорогу – значит, хлеб, керосин, письма, фельдшера, школу – это всё на той стороне и станет доступно, лишь когда спадёт вода, паромщица Варюха снова заведёт трос на блоки на обоих берегах и заскрипит песок под лагами сдвигающегося с берега парома. Но что тебе в этом?
– Ты почему не спишь?
– Подожди!..
Почему это прошлое вдруг выплыло из неведомого, что называют памятью? Что это? Принадлежит тебе? Но ты не можешь этим неизмеримым объёмом управлять! Ты не знаешь, что в нём есть и чего нет, может быть, того, самого необходимого тебе – деталей, тех самых мелких, что определяют картину; нет запахов, или тебе не по силам их воспроизвести – и то не для всех, а только для себя самого! Сядь. Закрой глаза. Представь этот давний берег реки. Вспомни, вспомни, как пахло речной талой водой, вспомни скрип телег и запах мокрого дерева, а потом лица и песок улицы, жёлтый-жёлтый от влаги, садящейся на него по утрам, особенно у берега…
Конечно, можно рассуждать о прошлом, переставлять в нём разные слагаемые и решать, как новое уравнение, но бывает лучше о нём забыть. Переплыть через реку и не оглядываться на тот берег, с которого ушёл навсегда…
Может быть, если бы знать наперёд, какое оно будет, это прошлое, то не было бы его – нашёл бы силы оборвать время на подходе к нему… Но ведь оно в то время было будущим, а без него жить невозможно. Без прошлого – можно, без будущего – нет.
Верил, что всё преодолеется. Вот чемоданчик матери «с вещами на первое время», что стоял много лет в прихожей, ей не пригодился! Сам потом таскал в нём учебники и сидел на нём, поставленном на попа, в проходе переполненной электрички. А что сама она вдруг икнула и тихо сползла на пол вдоль ножки стола, когда вынимала дрожащими руками в тот же день, как объявили о смерти Вождя, из его дерматинового брюха конверты, сухари, огрызок карандаша и пару фиолетовых подштанников с начёсом, это разве важно кому-то? Этого навалом в прошлом… Не могил за колючкой, не потерянных лет на нарах и лесоповале, не тысяч шагов в лубянском каземате… Никем не учтённых килограммов нервов и тревог, тонн оскорбительного страха и миллионов «чур меня»… Кто это выпишет, что совершенно точно от страха по ночам в момент освобождения от него случился разрыв сердца? Это же наивно и непрофессионально, нет такой графы в анкете и такого вопроса. Они только в чьём-то прошлом, и если тебе повезло выкарабкаться, не оглядывайся и не проигрывай заново пережитое, а то оно напомнит с двойной силой. Что, станешь тешить обиды и бегать по кругу? Глупо. Помнишь, сколько стоила смерть? Четверть буханки черняшки… За неё солдат, стороживший штабеля ящиков, отдавал снаряд 120-го калибра.
Ты же потом сам тянул жребий, кому кидать его в огонь, забыл? Петьку Смирнова в клочья… Васька без кисти остался. Тебя почему-то только оглушило и метров на двадцать кинуло, да и то в сугроб… Тебя бы первым должно было… Ты же ближе всех стоял. Что, это за собой волочь? Сколь долго и зачем?..
И чемоданчик этот ведь тоже после Победы объявился – мать его специально купила и поставила в прихожей за занавеской. От него несло дерматином, и запах этот не выветривался… Железные угольники держали прямоугольную форму, и окантовка не давала прогибаться крышке.
После того как она вещички вынула и попала в больницу, забросили его на антресоли, тебе-то ещё далеко было до студенчества – мечтал только… Куда хотел, не взяли: блата не нашлось, а так… ну, чтоб мать не огорчать и в армию не забрили… Тогда достал его: чтоб как у других. А на новый откуда деньги?.. Угольники потемнели, конечно, и ржавинка их чуть подкрасила, а пыль давно, попервоначалу въелась в липкий свежак обивки, она отдавала неистребимой сединой, воистину подвластной только времени… Ни вода её не брала, ни ластик, ни мыльная мочалка. И сперва это смущало, как-то выталкивало в нелепость скупердяйства или стеснительность нищеты, но незаметно всё растворилось, отошло, а стало без него невмоготу пусто… И не то что привычка – рука в холодной темноте утра сама находила его и наощупь определяла, всё ли на месте: тетрадки, линейка с треснутым бегунком, таблицы Брадиса… А потом это сменилось на белый халат, стетоскоп, пару резиновых перчаток, пузырёк со спиртом для рук…
Вспомни, вспомни: ты без этого чемоданчика ни часу не мог! В автобусе между коленок зажимал и лишь на остановке хватал за железную ручку и волок над головами, прорываясь к выходу, или протискивал сперва сквозь раздвинутые прутья забора и потом сам следом за ним на каток… Это было азартно и здорово: экономил на входном и на раздевалке, да и время не терял: коньки – из него, а туда ботинки…
Когда однажды забыл его в гардеробе в институте, летел вниз по ступенькам с колотящимся сердцем, и страшно было не то, что конспекты пропали! Что-то очень родное и важное будто отторгалось от тебя, вспомни!
Он уже не вещи хранил, а время! Память времени… И зачем оно тебе было? Вспоминалось на бегу, что мать давно уговаривала, мол, поменять его надо, ну хоть портфель отцовский взять довоенный, новый почти и с двумя замками… И это всё било по щекам на поворотах лестницы и гнало быстрее вниз… Да, он стоял там под длинными пальто на полу у стенки. Ну хоть бы в нём что на продажу было… Сам-то он уже и рубля не стоил. Если кто полюбопытствовал, хлопнул крышкой потом и оттолкнул ногой подальше, а тебе-то без него уже никак стало!
Ну зачем тащить это прошлое? Что в нём?
Эти восемь лет, что он простоял в прихожей, даром не прошли… Даром… Напитали его страхом и тревогой. И они тебе передались. Может, потому мать и ворчала, что негоже, мол, с чемоданом, что в этом какая-то неестественность, недоверие своему времени…
Возможно. Но ты был в дороге и теперь лишь понимал, что значит – восемь лет… Сперва в спешке невдомёк было: нельзя без него, никак нельзя… С масляными пятнами, обведёнными в задумчивости по контуру, на внутренней стороне откинутой крышки…
Может быть, ничего больше ты не хранишь в памяти с такими деталями, даже стихи, заученные наизусть, не столь подробны своими строчками! Щербинка в правом углу, нарушенные выдавленные линии на поверхности неограниченной шахматной выделки – сколько раз ты считал их в чёт-нечет, сбудется – не сбудется, и каждый раз получалось по-другому. То ли глаз уставал и сбивался, то ли и впрямь они вдруг сливались и спаривались, чувствуя причину и тоже волнуясь…
И чего там только не было: и Галчинский, и размытый снимок рва в Катыни, и «Жизнь и судьба», и Вислава Шимборска, и Терц с Даниэлем, и первые всплески Окуджавы…
Однажды, когда он уже совсем измочалился, продавилась крышка и покосились бока, ты освободил его наконец, тоже стоя у того же стола, как мать в пятьдесят третьем, и решил, что пора расставаться… Поставил его на то же место в прихожей, как бы давая ему возможность попрощаться, и время побежало своим чередом.
Конечно, снег новых забот одолевал, и скользили ноги, всё волокло и волокло против воли, как в половодье на плотике из трёх брёвен, чтоб спастись только… А когда не стало матери, пошло на перекос пространство, и объявился он на тех же антресолях. Как он там оказался? Ты вспомни, вспомни, это ж недавно было! Кто, кроме тебя, мог его туда засунуть? Да и то потихоньку, тайком, в час, когда никого не было дома… Не то пошла бы грызня за пространство. А ты не помнишь?!
Не ври хоть себе… Можно много забыть. Хочется. Зачем тебе прошлое? Ну прожил – и слава Богу. Но он там неспроста оказался – не надо помнить… Зачем тащить его за собой всю жизнь и снова просыпаться от его присутствия, потому что свято место пусто не бывает, и теперь в нём хранятся ночные всхлипы матери спросонья, и потом её осторожные шаги к окну, и взгляды вниз сквозь нераздвинутую занавеску, и кошачья поступь к двери с недоверием и чутко повёрнутым ухом, чтобы уловить хоть что-то с лестницы: не за ней ли пришли её партийцы-единоверцы?
Это прошлое не удалось тебе выгрузить из него, а не пустой – тебе не по силам поднять и вынести, чтобы тихонько поставить у мусорного бачка и скорее, не оборачиваясь, отойти в сторону, а потом за угол к подъезду…
И сколько бы ты ни размышлял, он всё равно будет с тобой. Даже если ты решишься на дерзость, он снова возникнет, материализуется из мысли, из тревоги «где он?», из незабываемого запаха свежего дерматина, отдающего летней помойкой, из ритмов сложивших его поверхность линий, из ощущения заклёпок на зажавших его бока ляжках, из образа широкоротого коричневого бегемота с плоской головой, из ночного пробуждения от пустоты на кровати в комнате, где больше нет матери, из скрипа, похожего на тот, что извлекала петля в его железной ручке на морозной улице, когда ты спешил, и он мотался, из той пустоты, что возникла на его месте и так никогда и не заместилась ни портфелем, ни сумками на плечевом ремне, ни кейсами, ни дипломатами, ни «стюардессами» на колёсиках…
Он был одушевлён. А живое оставляет самый непреходящий след даже тем, что умирает…
Послушай, зачем он тебе? Даже теперь, под сомнительное покачивание головы жены и ехидные словечки взрослеющих детей? Но к нему все привыкли, как привыкают к привитому словами прошлому, особенно тому, которое их не коснулось, не было тропкой прожитого и не цепляет репейником обид и потерь…
В нём лежат плоскогубцы, отвёртки, гвозди, кусок проволоки для жучка и сгоревший паяльник… Он и стоит там же, в прихожей, только занавеску сменили скользящие плоскости дверец. И, как прежде, редко кто о нём вспоминает…
Только когда ты остаёшься один и непонятная тоска заставляет тебя мотаться по комнате, вдруг оказывается он у тебя на коленях, и ты долго смотришь на его обшарпанные бока, пузырящуюся крышку, одну беспомощно повисшую застёжку, отшлифованную ручку, и снова играешь в чёт-нечет на его поверхности, и долго так сидишь, прижимая к животу двумя руками и ощущая каждой клеточкой прошлое, которое пропитало его и никогда, что бы ты ни решил, тебя ни за что не оставит…
И какая фантастическая сила в нём хранилась – она могла притягивать то, что было до его появления, не только в твоей комнате, в магазине, в убогой артели, где его мастерили без души и сердца, а ради заработка усталые исхудавшие люди, сидевшие в полуподвале с каменным полом и заляпанным окном под потолком, через которое проникал не свет, а только воздух улицы, отравленный машинами. Как это удавалось ему: вернуть тебя в то самое детство, которое только так называлось, а на самом деле в нём было всё по-взрослому, по-настоящему, без игры, а всерьёз, чтобы жить и выжить, чтобы остаться, а не уплыть в никуда с ледоходом или следующей холодной и злой зимой.
Эти телеги, ползущие в гору от пристани, когда река ещё была вспухшей и не угомонилась, люди, сидевшие на них по краям, свесив ноги, и другие, лежавшие – у которых у же не было сил сидеть, и те, что шли обок телег, держась за них одной рукой, потому что сил у них не было даже со скоростью улитки самим одолеть эту гору. Лошади фыркали, может, от непривычного неприятного запаха из телег от этих полутрупов в истлевшей вонючей одежде.
Таких экипажей было три. И в последнем вдруг на тебя посмотрели из-под какого-то капора такие глаза… ты никогда таких не видел, но мальчишечья память сразу определила – она здесь случайно, она убежала из книжки – это Мальвина с голубыми волосами и глазами, и дыхание твоё стало прерывистым, и глаза не могли посмотреть ни на что другое, и может быть, первый раз в жизни ты узнал, что у тебя есть внутри что-то такое, похожее на испуганного птенца, которого ты зажал в руке, а он пытается освободиться и то трепыхается, то замирает, собираясь с силами, чтоб попробовать ещё раз вырваться из плена.
Девочку звали Нина. Если бы сегодня тебя попросили нарисовать блокаду – её символ – одним росчерком, ты бы, если бы умел рисовать, бросил на лист бумаги огромные глаза, впалые щёки, казалось, соединившиеся внутри рта, и шейку – как у не опушившегося цыплёнка, в вертикальных морщинках и складках.
Михаил Садовский
Книга прозы известного писателя Михаила Садовского «Пока не поздно» состоит из трёх произведений, не связанных сюжетом, но есть две важные вещи, которые их объединяют. Они повествуют о жизни в стране в один и тот же период её истории, и автор, написавший их, сам прожил это время с теми, о ком рассказывает, в той самой своей стране, называвшейся Советский Союз. Книга повествует о жизни 40—90-х годов двадцатого века – времени глобальных перемен.
Пока не поздно
Михаил Садовский
© Михаил Садовский, 2017
ISBN 978-5-4490-0835-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Уважаемые читатели!
В этой книге три совершенно разных произведения, никак не связанные сюжетом, но есть две важные вещи, которые их объединяют. Они повествуют о жизни в стране в один и тот же период её истории, и автор, написавший их, сам прожил это время с теми, о ком рассказывает, в той самой своей стране, называвшейся Советский Союз.
Реалии на переломе истории меняются с такой скоростью, что в течение жизни одного поколения – а это, по признанию, учёных всего два десятилетия – происходят перемены столь серьезные, что следующее поколение с трудом понимает, или вовсе не может понять, как это было до их рождения, во времена, когда их родители были молодыми. Прожитое сегодня стремительно становится историей, в ней остаются глобальные события, а детали и мотивы поступков исчезают бесследно. Удивляют фотографии, «отсталая» техника на них, странная мода, непривычные выражения лиц…
Автору кажется, что книги, написанные сегодня, тоже становятся историей, не многие из них останутся чтением нового поколения. Но любопытный вернётся к ним, чтобы понять прошлое – не то глобальное, о котором напишут в учебниках и будут трактовать его ещё, может быть, в течение многих поколений, но со временем всё меньше и меньше места останется этим прошедшим годам. Открыв же книгу несколько десятилетий назад написанную, можно будет представить себе не только глобальные перемены, но то, как люди жили и как воспринимали происходящее…
Автору кажется, что заслуга литературы в её летописности, это не специально написанная летопись, в которой, кстати, легко можно в совершенно искажённом свете показывать события и их восприятие теми, кто жил тогда и теми, кто читает по прошествии времени, а то, что неизменно останется – как ели, что надевали, на чём ездили, как говорили и о чём спорили, что волновало, что заботило, о чём мечтали, чего ждали, и что категорически не принимали, как любили и что ненавидели…
Да, автор пережил эти годы: страдал, радовался, добивался, проваливался, отчаивался и поднимался вновь, чтобы жить. Однако не надо представлять, что герой повествования – сам автор. В этой книге ни один из персонажей не списан с натуры, и в тоже время, ни один из них не является плодом фантазии или выдумки автора. Это всё реальные люди, всё в этой книге подмечено, собрано и представлено читателю на его суд, для его памяти и знания.
Благодарю вас, что вы открыли эту книгу. Люди молодые познакомятся со своим прошлым, люди, жившие в годы, о которых повествуется, могут поделиться друг с другом тем, как «было у нас» – это драгоценные дополнения и ответы на вопросы несведущих.
Если будет так – книга не оставила вас равнодушными, а это самая большая радость для автора.
Желаю вам интересного чтения.
Кто ты, кто я
(повесть)
Кто ты, зверь, стоящий на краю белого поля в поиске добычи? От него никакого запаха, ни следа на нём. Далеко голубизна неба сгущается, опускается и становится синей до черноты полоской, обрамляющей его, – это воспоминания. Их сдуло туда ветром времени, и они стали горизонтом, а позади тебя ничего – пропасть. Отступил шаг назад – и провалился навсегда, и не будет тебя в той полоске на горизонте, на той дальней окраине поля жизни. Ты стремишься в это поле за добычей, и за тобой не остаётся ни следа, а ты всё идёшь и идёшь к тому дальнему краю. Зачем? Что тебе в том пацанёнке в коротеньком пальтишке, перетянутом верёвкой, и в ушанке не по размеру, слезшей на глаза? По реке идёт лёд. Вся деревня от мала до велика вытянулась на берег и смотрит с высоты на это чудо. Картины меняются каждую секунду, и невозможно удержать их в памяти. Вот огромная льдина с вдавленными в неё колеями дороги и пешнями по бокам её степенно проплывает мимо, и все мелкие осколки ледяного поля, встречающиеся ей на пути, вскакивают вдруг, вытягиваются вверх, будто по стойке смирно, и отдают честь. А она степенно и равнодушно уносит с собой дорогу – значит, хлеб, керосин, письма, фельдшера, школу – это всё на той стороне и станет доступно, лишь когда спадёт вода, паромщица Варюха снова заведёт трос на блоки на обоих берегах и заскрипит песок под лагами сдвигающегося с берега парома. Но что тебе в этом?
– Ты почему не спишь?
– Подожди!..
Почему это прошлое вдруг выплыло из неведомого, что называют памятью? Что это? Принадлежит тебе? Но ты не можешь этим неизмеримым объёмом управлять! Ты не знаешь, что в нём есть и чего нет, может быть, того, самого необходимого тебе – деталей, тех самых мелких, что определяют картину; нет запахов, или тебе не по силам их воспроизвести – и то не для всех, а только для себя самого! Сядь. Закрой глаза. Представь этот давний берег реки. Вспомни, вспомни, как пахло речной талой водой, вспомни скрип телег и запах мокрого дерева, а потом лица и песок улицы, жёлтый-жёлтый от влаги, садящейся на него по утрам, особенно у берега…
Конечно, можно рассуждать о прошлом, переставлять в нём разные слагаемые и решать, как новое уравнение, но бывает лучше о нём забыть. Переплыть через реку и не оглядываться на тот берег, с которого ушёл навсегда…
Может быть, если бы знать наперёд, какое оно будет, это прошлое, то не было бы его – нашёл бы силы оборвать время на подходе к нему… Но ведь оно в то время было будущим, а без него жить невозможно. Без прошлого – можно, без будущего – нет.
Верил, что всё преодолеется. Вот чемоданчик матери «с вещами на первое время», что стоял много лет в прихожей, ей не пригодился! Сам потом таскал в нём учебники и сидел на нём, поставленном на попа, в проходе переполненной электрички. А что сама она вдруг икнула и тихо сползла на пол вдоль ножки стола, когда вынимала дрожащими руками в тот же день, как объявили о смерти Вождя, из его дерматинового брюха конверты, сухари, огрызок карандаша и пару фиолетовых подштанников с начёсом, это разве важно кому-то? Этого навалом в прошлом… Не могил за колючкой, не потерянных лет на нарах и лесоповале, не тысяч шагов в лубянском каземате… Никем не учтённых килограммов нервов и тревог, тонн оскорбительного страха и миллионов «чур меня»… Кто это выпишет, что совершенно точно от страха по ночам в момент освобождения от него случился разрыв сердца? Это же наивно и непрофессионально, нет такой графы в анкете и такого вопроса. Они только в чьём-то прошлом, и если тебе повезло выкарабкаться, не оглядывайся и не проигрывай заново пережитое, а то оно напомнит с двойной силой. Что, станешь тешить обиды и бегать по кругу? Глупо. Помнишь, сколько стоила смерть? Четверть буханки черняшки… За неё солдат, стороживший штабеля ящиков, отдавал снаряд 120-го калибра.
Ты же потом сам тянул жребий, кому кидать его в огонь, забыл? Петьку Смирнова в клочья… Васька без кисти остался. Тебя почему-то только оглушило и метров на двадцать кинуло, да и то в сугроб… Тебя бы первым должно было… Ты же ближе всех стоял. Что, это за собой волочь? Сколь долго и зачем?..
И чемоданчик этот ведь тоже после Победы объявился – мать его специально купила и поставила в прихожей за занавеской. От него несло дерматином, и запах этот не выветривался… Железные угольники держали прямоугольную форму, и окантовка не давала прогибаться крышке.
После того как она вещички вынула и попала в больницу, забросили его на антресоли, тебе-то ещё далеко было до студенчества – мечтал только… Куда хотел, не взяли: блата не нашлось, а так… ну, чтоб мать не огорчать и в армию не забрили… Тогда достал его: чтоб как у других. А на новый откуда деньги?.. Угольники потемнели, конечно, и ржавинка их чуть подкрасила, а пыль давно, попервоначалу въелась в липкий свежак обивки, она отдавала неистребимой сединой, воистину подвластной только времени… Ни вода её не брала, ни ластик, ни мыльная мочалка. И сперва это смущало, как-то выталкивало в нелепость скупердяйства или стеснительность нищеты, но незаметно всё растворилось, отошло, а стало без него невмоготу пусто… И не то что привычка – рука в холодной темноте утра сама находила его и наощупь определяла, всё ли на месте: тетрадки, линейка с треснутым бегунком, таблицы Брадиса… А потом это сменилось на белый халат, стетоскоп, пару резиновых перчаток, пузырёк со спиртом для рук…
Вспомни, вспомни: ты без этого чемоданчика ни часу не мог! В автобусе между коленок зажимал и лишь на остановке хватал за железную ручку и волок над головами, прорываясь к выходу, или протискивал сперва сквозь раздвинутые прутья забора и потом сам следом за ним на каток… Это было азартно и здорово: экономил на входном и на раздевалке, да и время не терял: коньки – из него, а туда ботинки…
Когда однажды забыл его в гардеробе в институте, летел вниз по ступенькам с колотящимся сердцем, и страшно было не то, что конспекты пропали! Что-то очень родное и важное будто отторгалось от тебя, вспомни!
Он уже не вещи хранил, а время! Память времени… И зачем оно тебе было? Вспоминалось на бегу, что мать давно уговаривала, мол, поменять его надо, ну хоть портфель отцовский взять довоенный, новый почти и с двумя замками… И это всё било по щекам на поворотах лестницы и гнало быстрее вниз… Да, он стоял там под длинными пальто на полу у стенки. Ну хоть бы в нём что на продажу было… Сам-то он уже и рубля не стоил. Если кто полюбопытствовал, хлопнул крышкой потом и оттолкнул ногой подальше, а тебе-то без него уже никак стало!
Ну зачем тащить это прошлое? Что в нём?
Эти восемь лет, что он простоял в прихожей, даром не прошли… Даром… Напитали его страхом и тревогой. И они тебе передались. Может, потому мать и ворчала, что негоже, мол, с чемоданом, что в этом какая-то неестественность, недоверие своему времени…
Возможно. Но ты был в дороге и теперь лишь понимал, что значит – восемь лет… Сперва в спешке невдомёк было: нельзя без него, никак нельзя… С масляными пятнами, обведёнными в задумчивости по контуру, на внутренней стороне откинутой крышки…
Может быть, ничего больше ты не хранишь в памяти с такими деталями, даже стихи, заученные наизусть, не столь подробны своими строчками! Щербинка в правом углу, нарушенные выдавленные линии на поверхности неограниченной шахматной выделки – сколько раз ты считал их в чёт-нечет, сбудется – не сбудется, и каждый раз получалось по-другому. То ли глаз уставал и сбивался, то ли и впрямь они вдруг сливались и спаривались, чувствуя причину и тоже волнуясь…
И чего там только не было: и Галчинский, и размытый снимок рва в Катыни, и «Жизнь и судьба», и Вислава Шимборска, и Терц с Даниэлем, и первые всплески Окуджавы…
Однажды, когда он уже совсем измочалился, продавилась крышка и покосились бока, ты освободил его наконец, тоже стоя у того же стола, как мать в пятьдесят третьем, и решил, что пора расставаться… Поставил его на то же место в прихожей, как бы давая ему возможность попрощаться, и время побежало своим чередом.
Конечно, снег новых забот одолевал, и скользили ноги, всё волокло и волокло против воли, как в половодье на плотике из трёх брёвен, чтоб спастись только… А когда не стало матери, пошло на перекос пространство, и объявился он на тех же антресолях. Как он там оказался? Ты вспомни, вспомни, это ж недавно было! Кто, кроме тебя, мог его туда засунуть? Да и то потихоньку, тайком, в час, когда никого не было дома… Не то пошла бы грызня за пространство. А ты не помнишь?!
Не ври хоть себе… Можно много забыть. Хочется. Зачем тебе прошлое? Ну прожил – и слава Богу. Но он там неспроста оказался – не надо помнить… Зачем тащить его за собой всю жизнь и снова просыпаться от его присутствия, потому что свято место пусто не бывает, и теперь в нём хранятся ночные всхлипы матери спросонья, и потом её осторожные шаги к окну, и взгляды вниз сквозь нераздвинутую занавеску, и кошачья поступь к двери с недоверием и чутко повёрнутым ухом, чтобы уловить хоть что-то с лестницы: не за ней ли пришли её партийцы-единоверцы?
Это прошлое не удалось тебе выгрузить из него, а не пустой – тебе не по силам поднять и вынести, чтобы тихонько поставить у мусорного бачка и скорее, не оборачиваясь, отойти в сторону, а потом за угол к подъезду…
И сколько бы ты ни размышлял, он всё равно будет с тобой. Даже если ты решишься на дерзость, он снова возникнет, материализуется из мысли, из тревоги «где он?», из незабываемого запаха свежего дерматина, отдающего летней помойкой, из ритмов сложивших его поверхность линий, из ощущения заклёпок на зажавших его бока ляжках, из образа широкоротого коричневого бегемота с плоской головой, из ночного пробуждения от пустоты на кровати в комнате, где больше нет матери, из скрипа, похожего на тот, что извлекала петля в его железной ручке на морозной улице, когда ты спешил, и он мотался, из той пустоты, что возникла на его месте и так никогда и не заместилась ни портфелем, ни сумками на плечевом ремне, ни кейсами, ни дипломатами, ни «стюардессами» на колёсиках…
Он был одушевлён. А живое оставляет самый непреходящий след даже тем, что умирает…
Послушай, зачем он тебе? Даже теперь, под сомнительное покачивание головы жены и ехидные словечки взрослеющих детей? Но к нему все привыкли, как привыкают к привитому словами прошлому, особенно тому, которое их не коснулось, не было тропкой прожитого и не цепляет репейником обид и потерь…
В нём лежат плоскогубцы, отвёртки, гвозди, кусок проволоки для жучка и сгоревший паяльник… Он и стоит там же, в прихожей, только занавеску сменили скользящие плоскости дверец. И, как прежде, редко кто о нём вспоминает…
Только когда ты остаёшься один и непонятная тоска заставляет тебя мотаться по комнате, вдруг оказывается он у тебя на коленях, и ты долго смотришь на его обшарпанные бока, пузырящуюся крышку, одну беспомощно повисшую застёжку, отшлифованную ручку, и снова играешь в чёт-нечет на его поверхности, и долго так сидишь, прижимая к животу двумя руками и ощущая каждой клеточкой прошлое, которое пропитало его и никогда, что бы ты ни решил, тебя ни за что не оставит…
И какая фантастическая сила в нём хранилась – она могла притягивать то, что было до его появления, не только в твоей комнате, в магазине, в убогой артели, где его мастерили без души и сердца, а ради заработка усталые исхудавшие люди, сидевшие в полуподвале с каменным полом и заляпанным окном под потолком, через которое проникал не свет, а только воздух улицы, отравленный машинами. Как это удавалось ему: вернуть тебя в то самое детство, которое только так называлось, а на самом деле в нём было всё по-взрослому, по-настоящему, без игры, а всерьёз, чтобы жить и выжить, чтобы остаться, а не уплыть в никуда с ледоходом или следующей холодной и злой зимой.
Эти телеги, ползущие в гору от пристани, когда река ещё была вспухшей и не угомонилась, люди, сидевшие на них по краям, свесив ноги, и другие, лежавшие – у которых у же не было сил сидеть, и те, что шли обок телег, держась за них одной рукой, потому что сил у них не было даже со скоростью улитки самим одолеть эту гору. Лошади фыркали, может, от непривычного неприятного запаха из телег от этих полутрупов в истлевшей вонючей одежде.
Таких экипажей было три. И в последнем вдруг на тебя посмотрели из-под какого-то капора такие глаза… ты никогда таких не видел, но мальчишечья память сразу определила – она здесь случайно, она убежала из книжки – это Мальвина с голубыми волосами и глазами, и дыхание твоё стало прерывистым, и глаза не могли посмотреть ни на что другое, и может быть, первый раз в жизни ты узнал, что у тебя есть внутри что-то такое, похожее на испуганного птенца, которого ты зажал в руке, а он пытается освободиться и то трепыхается, то замирает, собираясь с силами, чтоб попробовать ещё раз вырваться из плена.
Девочку звали Нина. Если бы сегодня тебя попросили нарисовать блокаду – её символ – одним росчерком, ты бы, если бы умел рисовать, бросил на лист бумаги огромные глаза, впалые щёки, казалось, соединившиеся внутри рта, и шейку – как у не опушившегося цыплёнка, в вертикальных морщинках и складках.
Другие электронные книги автора Михаил Садовский
Другие аудиокниги автора Михаил Садовский
Бяша




 4.5
4.5